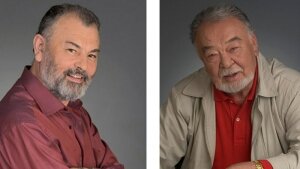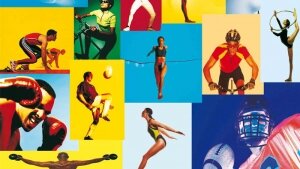На фоне печальных экономических новостей появилась вроде как одна хорошая – за январь-август нынешнего года объем новых займов казахстанских банков в несырьевом секторе экономики вырос на 22%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,2 триллиона тенге.
Но здесь есть два важных нюанса. Во-первых – кредиты выросли в номинальном тенговом исчислении, а если учесть, что курс национальной валюты снизился почти в два раза, по факту можно говорить не о росте кредитования, а о спаде.
Во-вторых, почти три четверти всего объема кредитования обрабатывающей промышленности, 73%, приходится на государственный Банк развития Казахстана (БРК). В 2014 году, как следует из данных БРК, этот показатель был почти таким же – 72%. Наверное, это предмет гордости для самого БРК и холдинга «Байтерек», в который он входит. Ведь все всегда ругали институты развития, а на них, оказывается, держится все финансирование нашей несырьевой индустрии. Без БРК встали бы заводы и фабрики.
Но если приподняться над узковедомственными интересами, то взгляду предстает не предмет для гордости, а тихий ужас. Если на один госбанк приходится три четверти кредитов, это означает монополизацию рынка, на котором БРК – и хозяин, и барин.
Тут нужно еще учесть, что через структуры холдинга «Байтерек» проходят дополнительные кредитные ресурсы, в том числе те, за счет которых потом дают займы частные банки. Таким образом, степень государственной монополизации на рынке кредитования промышленности просто зашкаливает. И это не есть хорошо. Особенно на фоне того, как мы все громче заявляем об открытой экономике, снижении долги госучастия и переходе к передовым стандартам ОЭСР.
Также следует обратить внимание на структуру кредитов БРК. Среди самых крупных проектов, которые он сейчас финансирует, – строительство мощностей по глубокой переработке нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, модернизация Павлодарского нефтехимического завода. Оба предприятия – государственные. Иными словами, государственный банк финансирует государственные же предприятия.
Частный промышленный сектор, по сути, вообще не у дел. Он не интересен ни государству, ни тем более частным банкам. Все частные коммерческие банки, вместе взятые, обеспечивают потребности промышленности в кредитах лишь на четверть. И это при том, что из выдаваемых ими кредитов лишь пятая часть идет на инвестиционные цели, остальное – банальная оборотка. Мало того, коммерческие банки дают кредиты при субсидировании процентной ставки за счет государства. Иными словами, их реальный вклад в финансирование обрабатывающего сектора экономики стремится к нулю.
И это диагноз нашей банковской системе. По сути, она давно перестала выполнять свое предназначение – финансировать развитие экономики. Она занимается кредитованием торговли, то есть, по сути, чужой промышленности.
В развитых странах банки работают вместе с предприятиями, ищут интересные проекты, строят финансовые модели, тщательно оценивают рыночные перспективы. Наши же банкиры предпочитают этим не «заморачиваться». А зачем? Ведь можно спокойно жить на том, чтобы обслуживать госпрограммы, механически распределяя деньги, которые направляет государство на поддержку тех или иных отраслей, и получая свои посреднические проценты.
По сути, банковское кредитование промышленности у нас вымирает, как класс. Парадокс, но Национальный банк этого не замечает. По крайней мере, он еще ни разу не назвал это среди проблем финансового сектора. Нацбанк тратит огромные усилия на пиар своей работы, посвящая все исключительно двум темам – курсу тенге и дедолларизации. Складывается впечатление, что никаких других проблем у нас не существует.
Между тем, именно отсутствие эффективного банковского кредитования производственного сектора – это первопричина всех проблем. Пока у нас не появится устойчивой индустриальной и агарной отрасли, не будет ни стабильности тенге, ни дедолларизации. Когда уже это поймет, наконец, руководство Нацбанка во главе с Данияром Акишевым?!
Хотя, в принципе, уже очевидно, что силами Нацбанка этот вопрос решить уже не получится. Здесь нужные комплексные меры и, возможно, структурные изменения в сфере управления банковской отраслью, которое должно заниматься не обменниками, а реальным сектором экономики.