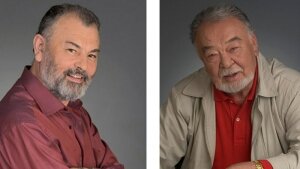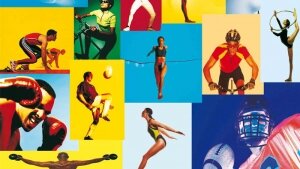Беспрецедентные объемы государственных вливаний в экономику позволили Казахстану выйти из рецессии и добиться символического роста ВВП на 0,3%. Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, выступая вчера в парламенте, назвал именно рост инвестиций главной причиной перехода в «плюсовую» зону.
По данным министра, из 4,3 триллиона тенге инвестиций 1,5 триллиона тенге, т.е. 35%, поступило от государства и квазигосударственного сектора. Таким образом, можно сказать, что государство своими целенаправленными усилиями добилось роста экономики.
Однако такая победа выглядит пирровой. Ведь огромный уровень государственных инвестиций – это не достижение, а пугающий показатель. Например, в странах ОЭСР, к стандартам которых мы хотим перейти, средняя доля государственных инвестиций в экономику не превышает 15% - более чем в два раза ниже, чем у нас.
Кроме того, в государствах ОЭСР к инвестициям относят также вложения в образование, социальное обеспечение, и если у нас посчитать еще и эти расходы, то общая доля госинвестиций может перевалить за 50%. А это означает, что без государственного сектора экономика попросту нежизнеспособна.
Да, государственная поддержка нужна для экономики в трудную минуту. Однако в случае ее передозировки она становится поистине ядовитой. Во-первых, частный сектор экономики теряет инициативу и начинает полностью полагаться на правительство. Во-вторых, правительство перестает работать над созданием иных стимулов для экономики. В-третьих, растущие объемы государственной поддержки неминуемо порождают почву для коррупционных злоупотреблений.
Следить за эффективностью государственных инвестиций становится просто физически невозможно. На самом деле «инвестициями» их даже нельзя назвать, поскольку непонятно, какую отдачу они приносят государству. Деньги осваиваются, то бишь тратятся, давая сиюминутный выхлоп в виде номинальной прибавки к ВВП, но их влияние на долгосрочные изменения в экономике никто даже не оценивает.
Самое тревожное, что неудержимое наращивание государственных инвестиций – это, что называется, билет в один конец. Начав это делать, остановиться очень сложно. Ведь если государство сейчас начнет сокращать объемы поддержки экономики, это обернется падением ВВП. У нас выстраивается своего рода финансовая пирамида в общегосударственном масштабе. А ее главный принцип, как у любой пирамиды – непрерывный рост.
Поэтому правительство вынуждено продолжать инвестиционную гонку, сжигая все больше резервов. Как отметил Куандык Бишимбаев, в 2017 году Казахстан потратит из Национального фонда на 1,4 триллиона тенге больше, чем туда придет поступлений, а в 2018 и 2019 года перерасход составит по 1 триллиону тенге. Иными словами, мы заведомо живем не по средствам - в надежде, что в будущем то ли цены на нефть вырастут, то ли несырьевой сектор чудесным образом начнет приносить отдачу.
Но если не надеяться на «авось», то выход видится только в том, чтобы отказаться от непроизводительной доли государственных инвестиций. Ведь у нас даже при передаче денег реальному сектору значительная их часть съедается, что называется, на ровном месте, оставаясь в руках финансовых посредников. Еще одно непонятное звено в инвестиционном потоке – это национальные холдинги.
В целом процесс государственного инвестирования в Казахстане настолько своеобразен, что имеет мало общего с тем, как это происходит в частном секторе или в государственной сфере в развитых странах. Они приносит пользу не столько экономике, столько тем, кто распределяет средства.
Очевидно, что назрела пора выработать четкие процедуры государственных инвестиций, отвечающие принципам стран ОЭСР.