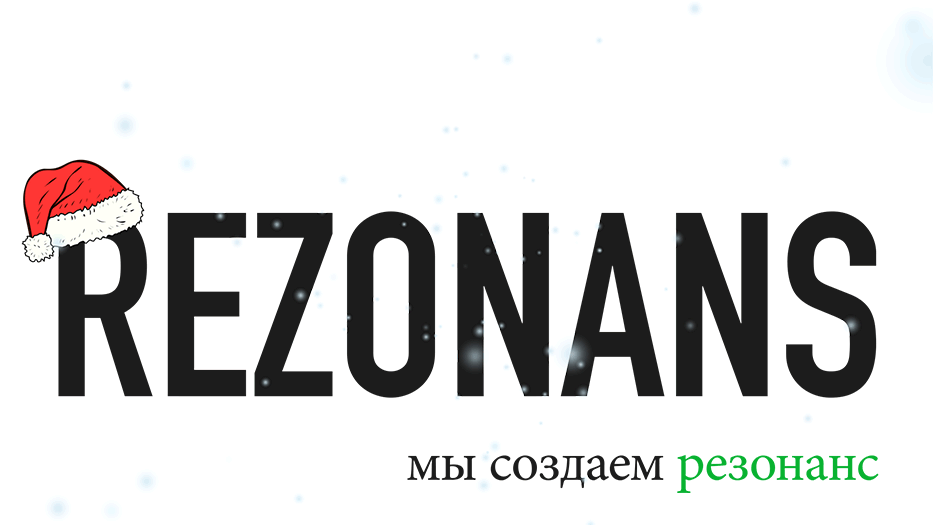Идеология никуда не уходила. Она ждала своего часа, чтобы возродиться вновь. И в этом нет ничего плохого, если она не является агрессивно ориентированной. Но если ты видишь вокруг в своей голове “кольцо врагов”, рано или поздно это проявится и в жизни. Кстати, в Беларуси отделы идеологии есть на каждом предприятии, и вряд ли это облегчило политическую жизнь.
Все это прямые и косвенные приметы того, что мир вступает в новый период того, что обозначается в истории как долгая война. И опыт долгих войн показывает, что в этом случае нужна идеология. Без нее долгой войны не бывает, долгая война – это обязательно и одновременно идеологическая война.
Опыт таких войн хорошо изучен, поскольку мы прожили в рамках них достаточный период истории. С идеологией в голове пришлось идти на войну: “За короткий XX век в мире расцвели и угасли два «Великих нарратива»: фашизм и коммунизм. Хотя говорить об их полном исчезновении пока рано, поскольку активно действуют как ультраправые, так и левые силы. Тем не менее III Рейх и СССР, которые олицетворяли эти две идеологии, прекратили свое существование, что дало повод говорить о пресловутом «конце истории», поскольку альтернатив западной «демократии» не осталось и восторжествовал «презентизм» <…> Даже люди, причастные к созданию или поддержанию «Великих нарративов», начинают преподносить их как заранее неосуществимые проекты. Такая судьба постигла и проект «развернутого строительства коммунизма», который, наряду с насаждением кукурузы и освоением целины, стал негативным символом хрущевского десятилетия” [53].
Но население практически никогда не живет в построенном и реализованном, власть всегда отправляет его строить и реализовывать нечто будущее, но не жить в настоящем. Цели “жить” как-то не было в Союзе, она каждый раз откладывалась ради построения будущего.
В свое время поездка Хрущева в США открыла ему глаза: “Определенную роль в демонстративном соревновании мог сыграть визит Н. С. Хрущева в США, где он мог своими глазами взглянуть на «загнивающий Запад». Несмотря на всю идеологическую критику западного образа жизни, очевидных преимуществ в его уровне не заметить было нельзя. Недаром одним из самых популярных призывов того времени был «Держись, корова из штата Айова!», поскольку, как отмечали современники, все хотели перегнать Америку по мясу, молоку и прогрессу на душу населения. Можно предположить, что коммунизм представлялся как американский уровень благосостояния в сочетании с советской политической системой” (там же).
Однако Советский Союз погибает и при наличии хороших идей, и своего видения будущего, то есть уровень информационного и виртуального пространства был высок, чего нельзя было сказать о физическом пространстве. Западная картинка мира резко отличалась в этом плане от советской. И хоть советский человек видел только кино, а не реальность, он автоматически переносил это на якобы реальную американскую жизнь. Кстати, сегодня мы даже не знаем и не задумываемся над тем, какой трансформирующий потенциал заложен в телесериалах, которые безотрывно смотрит все человечество, причем одно и то же во всех странах.
В. Познер говорит: “американцы, когда открыли у нас свою выставку – я это очень хорошо помню, в 1959 году, когда с конной милицией надо было сдерживать толпы, смотревшие на простые вещи в общем-то. На американскую кухню с холодильником и стиральной машиной. Когда драки шли за пластмассовые пакеты, на которых было написано «Пепси-кола»… Драки, настоящие! Потому что таких пакетиков пластмассовых у нас не было. И оказалось, что вот такие вещи абсолютно простые, домашние, ежедневные производят более сильное впечатление и влияние на мозги, чем замечательный актер или ансамбль…” [54].
Вернувшись в наше время, мы опять видим существенный разрыв в физическом пространстве, но теперь к нему добавился и разрыв в виртуальном пространстве, поскольку уже нет своего видения мира, а есть только западное. Но оно же одновременно считается враждебным. Образуется какая-то политическая шизофрения.
Одновременно возводятся информационные и виртуальные “валы”, призванные защищать от Запада, притом, что вся техника, мода, кино – западные. И это не только весь технический инструментарий, но и практически вся виртуальная продукция: от телесериалов до видеоигр. И в них человечество проводит большую часть своего времени. Оно живет в виртуальности, одновременно незаметно для себя впитывая предлагаемую там модель мира.
Редакция сайта «Проект» считает, что эти защитные сооружения, на которые, как и на силовиков, тратятся большие бюджетные суммы, имеют вполне конкретные цели: “Главная идея, которая руководит лидером России все 20 лет, — прятать, перепрятывать и затуманивать высокими словами свое прошлое и настоящее. Уже из этой идеи рождается все остальное: конфронтация с другими странами, ориентированная на друзей экономика, скрепы, дело ЮКОСа, отравление Алексея Навального и все прочее вплоть до нелепых мелочей вроде нарощенных каблуков или фотографий с голым торсом” [55].
И еще оттуда же: “Этический облик президента не выдерживает критики, и в стране, где существуют политическая репутация и честные выборы, это непременно осложнило бы ему нахождение во власти на протяжении 20 лет. Все эти годы в стране с привлечением тысяч государственных служащих и частных лиц проводилась операция прикрытия: фиктивные должности для женщин президента, тайные резиденции и другое незаконно полученное имущество, спрятанное от общества силами государственных СМИ, спецслужб, кадастрового ведомства и множества других людей, получающих именно за это зарплату”.
В такой борьбе виртуальность призвана заменить реальность. Она всегда будет ярче и красивее реальности. По этой причине телезащита власти не умрет в ближайшее время. Никакие соцсети не могут передать это ощущение единой толпы, когда зритель ощущает себя плечо к плечу стоящим на экране персонажем. Все телешоу действуют как “Голубой огонек” советского времени, объединяя ” своих” в противостоянии “чужим”. Правда, в “Голубом огоньке” было больше объединения и меньше противостояния. Он должен был успокаивать, а ток-шоу должны будоражить.
Построенный виртуальный щит действует по известному принципу, что лучшая защита – это нападение. Модель “кольца врагов” – универсальна, она позволяет давать ответ на любую проблему, являясь средством объединения страны вокруг своего лидера. Но следует помнить и то, что разные медиаотражения мира – это не сам мир. Медиа просто удерживают наше внимание на том, что в первую важно для других.
Физическая действительность отлична от виртуальной. Живя в виртуальной, мы начинаем видеть то, чего нет в реальности, и не видеть того, что там есть. Мы становимся рабами медиаотражений, отсюда такое внимание к ним у В. Путина, а также многомиллионные затраты на воспроизводство медиакартинок в каждой квартире.
В. Илларионов, признав Познера многолетним пропагандистом, переходит к характеристике первого лица: “Сравнение между стратегиями и тактиками, присвоение Путину качества тактика и отказ ему в качестве стратега происходит в основном от западных лидеров – европейских, американских. Но у них понимание стратегии заключается в другом. В понимании большинства из этих людей, главной стратегической целью является укрепление собственной страны, повышение благосостояния собственных граждан. И с этой точки зрения недостижение этих целей свидетельствует о том, что человек не является стратегом. Им очень трудно понять, что у лидера государства главными могут быть другие цели – личные, друзей или создание империи” [56].
Результаты, достигнутые Путиным, глазами самого Путина по мнению Илларионова выглядят так: “Он уже меньше думает о том, что напишут о нем в учебниках истории, за исключением только того, что касается воссоздания так называемой исторической России – имперского проекта, который действительно ему очень дорог. А в остальном то, что отметят, как он ему кажется, идет со знаком “плюс”. Это аннексия Крыма, попытка установления контроля над Беларусью, операция против Грузии по захвату Южной Осетии и Абхазии. Может быть, первые полгода так и будет – до тех пор, пока во власти будут находиться люди, которые следуют курсу Путина. Но в исторической перспективе это будет черной страницей российской истории, которую придется пересматривать, изменять. Российские войска все равно рано или поздно уйдут из оккупированного Крыма, Донбасса, Южной Осетии и Абхазии, они будут выведены из Приднестровья. Это совершенно очевидно. И любое сколько-нибудь ответственное правительство у нас (не только либеральное) будет делать все возможное для восстановления международно признанных границ России по состоянию на декабрь 1991 года. Если, конечно, дальнейшее развитие страны не приведет к тому, что границы РФ изменятся еще, и не в ее пользу” (там же).
Для защиты себя государство и создало Комитет виртуальной безопасности в лице гостелевидения. Но это защита от собственного населения, поскольку никто другой эти передачи не смотрит. Там можно найти правильные ответы даже на неправильные вопросы.
Интересно, что и для британцев тоже телевидение остается основным источником новостей, хотя ему на пятки наступают соцмедиа [57 – 58].
Известный исследователь телевидения Д. Дондурей говорил, что глубинная госбезопасность – это охрана понимания жизни. Тех специалистов, которые занимаются мозгами граждан он назвал “смысловиками” по аналогии с “силовиками”. И те, и другие важны и необходимы: “Еще в конце минувшего века госсмысловики совершили открытие. Осознали невероятное: при умелом программировании массовой культуры предоставленные рыночной системой возможности совершенно не опасны для сохранения концепции «особого пути» российского «государства-цивилизации». Частная собственность, подключение к мировой финансовой системе, отсутствие цензуры в ее прежнем виде, подписание множества международных правовых конвенций, наличие элементов гражданского общества и даже допуск определенного объема конкуренции не препятствуют воспроизводству протофеодальных по своим внутренним кодам принципов устройства российской жизни. Оказалось, что теперь можно не наказывать людей за собственнические побуждения, за нелояльные господствующей доктрине мысли, не препятствовать поездкам миллионов граждан за границу. Наоборот, их призывают: добывайте деньги, покупайте, думайте о детях, о своем здоровье, путешествуйте, вкусно ешьте, делайте селфи, как это происходит в любой нормальной стране. Только будьте уверены, что все эти невообразимые для бывшего советского человека возможности вы получили в результате установления «порядка», «стабильности», «справедливости». А также обуздания ненавистных олигархов, восстановления утраченного чувства единства и причастности к великой стране – признанному центру силы и гаранту нового многополярного мира. Рынок оказался спасителем советского типа сознания. Его щедрым кормильцем” [59].
И еще: “Шаг за шагом, терпеливо и системно, смысловики сохраняли у строителей капитализма советский (российский трансисторический) тип сознания. Не позволили снять ни одного сериала о «красном» терроре, насильно переселенных народах, об ужасах жизни в ГУЛАГе, о массовом доносительстве, разбирательстве в парткомах интимных семейных отношений или преступности обладания иностранной валютой. На опрос «Левада-центра» «Как следует относиться к своей советской истории?» 76% россиян ответили, что «с гордостью». Вопреки всем идеалам действующей Конституции трое из каждых четырех граждан нашей страны спустя четверть века не принимают рыночные отношения и частную собственность! Они убеждены, что государство – это вовсе не система институтов, как думают бездушные экономисты. Государство – это народ, язык, культура, общая история, друзья, родители. Это, конечно же, родина и отчизна. А ныне действующая «администрация» (у нас вместо этого понятия используется более привычное – «власть»), естественно, неотъемлемая часть родины. Люди выучили, что сегодня важно противостоять любым попыткам зарубежных «партнеров» подчинить нас глубоко чуждым – нероссийским – ценностям и тем самым лишить реализации национальных интересов, а следовательно, и суверенитета. Так думать, безусловно, намного проще, чем переживать за низкую производительность труда, воспитывать анонимную ответственность или отвагу рисковать в качестве предпринимателей. Импортозамещение – вот наш концептуальный ответ на современные цивилизационные вызовы, такие как участие в трансгосударственной кооперации, в сложных производственных цепочках, умножении интеллектуальной части человеческого капитала, совмещении ценностных и моральных взглядов населения разных стран, без чего вскоре будет невозможно создавать конкурентоспособные продукты вторичной обработки” (там же).
Нам встретился и такой достаточно острый взгляд на результат всех этих в первую очередь ментальных процессов: “сегодняшняя РФ – не наследник исторической России, а осколок Советского Союза. Разумеется, со значительными модификациями. Меритократия наоборот, всевластие чиновников и силовиков, фиктивная демократия (в СССР – «социалистическая демократия»), экспортно-сырьевая экономика, доминирование крупных госкомпаний – всё это является фундаментом как советской, так и нынешней системы. Так же и оппозиция имеет соответствующие особенности. Ключевую роль и тогда, и теперь играет идеология агрессивного милитаризма и великодержавного шовинизма. Не этнического, а государственного, бюрократического. Который сейчас упрощён и избавлен от осточертевших сказок о «добром дедушке Ленине» и «комиссарах в пыльных шлемах». А заодно от революционно-освободительной романтики, которая так сильно подставляла идеологов КПСС. Теперь вся идеология с полной откровенностью посвящена культу начальства. Агитпроп восхваляет и сталинизм, и самодержавие, и крепостное право. Любой деспотизм, подчас до Батыя включительно. Российское общество, довольно сильно изменившееся после 1991 года, сохраняет принципиальные советские черты. Жёсткая социальная дифференциация. «Самоизоляция» элиты на властном олимпе. Почти полное отсечение масс от принятия политических решений любого уровня. Этот феномен, свойственный слаборазвитым странам и называемый в Латинской Америке «исключённостью» (exclusion), в СССР принял огромные размеры. И после 1991-го перекочевал в современное российское общество” [60].
Начиная с Крыма, Россия начала решать свои внутренние проблемы во внешнем мире. Но это все победы территориальные, никак не связанные с развитием страны. В этом плане они количественные, а не качественные. Это победы генералов, которые водят указкой по карте мира, а не победы для старушек, живущих от пенсии до пенсии. Это как победы Селима I, строителя оттоманской империи, которые отвлекли время и энергию католических иерархов, дав возможность поднять голову Лютеру. В результате не Селим, а Лютер стал тем, кто сделал следующий шаг в развитии человечества. Не захват территорий, а захват мозгов движет вперед мир. Мозги должны побеждать грубую силу, поскольку за окном другой век…
Литература:
- Фокин А. А. «Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов. – М., 2017
- Почему американцы не хотят говорить с русскими и почему «сломался» СССР: отвечает Владимир Познер https://www.kp.ru/daily/2171204/4315641/
- Что не так с тайной жизнью президента. Редакция «Проекта» о том, как вся страна спасала Владимира Путина от провала https://www.proekt.media/opinion/editorial-tainy-putina/
- Шакиров М. “Путин зажигается, когда говорит о железках, убивающих миллионы людей. Интервью с В. Илларионовым https://www.svoboda.org/a/30973404.html
- Pearce J. OFCOM: TV remains UK’s most popular news source https://www.ibc.org/trends/ofcom-tv-remains-uks-most-popular-news-source/4175.article
- Study: Social media increasingly UK adults’ news source https://advanced-television.com/2019/07/24/study-social-media-increasingly-uk-adults-news-source/
- Дондурей Д. Российская смысловая матрица https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/01/643174-rossiiskaya-smislovaya-matritsa
- Трифонов Е. Оппозиция “глубинного народа” http://vkrizis.ru/analiz/oppozicziya-glubinnogo-naroda/