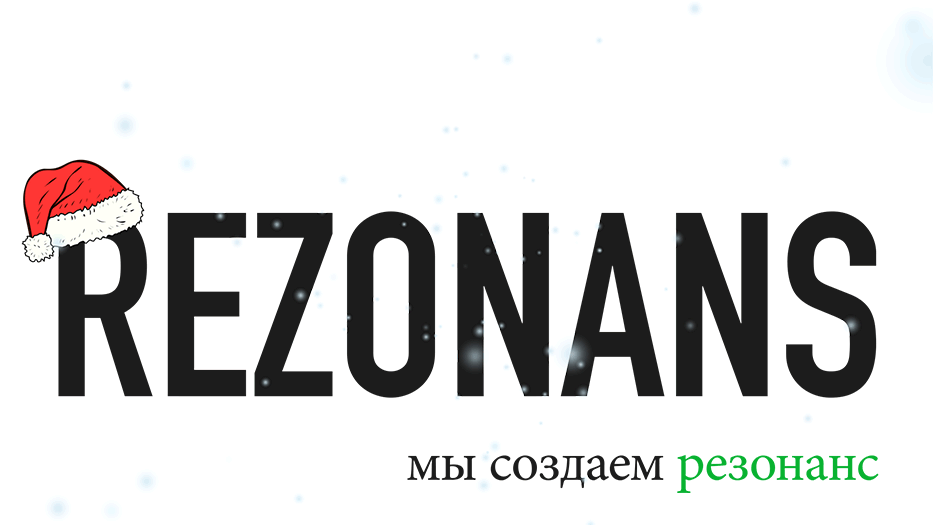Школьный учебник истории может вместить все. Но это не так по отношению к Истории большой буквы. Ее истины не поддаются властным трансформациям. Хоть историю любили и цари, и генсеки, все равно она способна удерживать справедливость своих интерпретаций.
А. Невзоров, к сожалению, увидел, что в схватке властных и анти-властных сил победа придет в руки как бы нулевому по отношению к ним элементу: “мы понимаем, что в основе этой картины лежит абсолютно непреложный факт, что путинизм, конечно, проиграл страну, но это не значит, что страну выиграла оппозиция. И в этой страшной битве высоких драматических идеологий в схватке патриотизма и либерализма победит ТикТок, и это уже абсолютно точно” [20].
И. Шаблинский считает, что идеология сегодня все же есть: “государственная идеология фактически уже есть: два ее главных слагаемых более или менее обозначились в последнее десятилетие. Первое. Президент всегда прав, власть его не ограничена и не подлежит контролю и критике. Второе. Внешнее окружение нашего государства в основном враждебно, то есть, намерения крупнейших и богатейших государств мира по отношению к России в основном недружественные. Иными словами, и тут мы должны использовать именно слова президента, санкции — «это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине и даже не в связи с так называемой «крымской весной… Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на неё, а ещё лучше — использовать в своих интересах». Вторым положением неформальной государственной идеологии, как можно догадаться, в общем обусловлено первое. Президент должен защитить нас от… всех. Ну разве такое запишешь в Конституции” [21].
Интересно, что другие идеологии все же разрабатывались в СССР “Базовой идеей, исходя из которой большевики-ленинцы строили свою программу, была концепция перманентной революции. Эта теория была актуализирована Львом Троцким, который в 1929 г. написал книгу «Перманентная революция», сама работа увидела свет в 1930 г. Автор, полемизируя с критиками, концептуализирует данную теорию и выступает против сталинского режима, обозначая его как национал-социализм. Опираясь на работу Льва Троцкого, а также активно цитируя Владимира Ленина, представители левой оппозиции Верхнеуральского политического изолятора отмечают, что даже после социалистической революции в России страна продолжает существовать в рамках мирового разделения труда. Исходя из этого они считают, что концепция построения социализма в одной отдельной взятой стране, которая утвердилась в СССР после внутрипартийной борьбы 1920-х гг., ошибочна, поскольку невозможно обеспечить национальные потребности в рамках закрытой и замкнутой системы. Также для большевиков-ленинцев была важна идея о невозможности разграничения внутренней и внешней политики. Они считали, что развитие классовой борьбы внутри страны тесно связано с общим ходом международной классовой борьбы. Поэтому в изолированной стране будут накапливаться противоречия, которые в итоге приведут ее к гибели. То есть целью социалистического государства должно быть не экономическое соревнование с капиталистическими государствами, а борьба с мировой буржуазией. Необходимо не замыкаться в рамках одной страны, а выводить диктатуру пролетариата на международный уровень” [22].
Это документы, датируемые 1932–1933 годами, найденные во время ремонта в Верхнеуральской тюрьме в начале 2018 года. Там под досками пола был обнаружен тайник с этими текстами, получившими наименование «Тетради Верхнеуральского политического изолятора».
То есть идеи Троцкого продолжали жить в СССР, хотя и в подполье.
Дж. Ле Карре, будучи не только писателем, но и представителем чужих спецслужб, очень интересно описал СССР [23]:
– “Я исследовал секретные службы как подсознание народов, которым они принадлежали. Меня интересовали подлинные подспудные страхи и мифы, которыми они жили. К примеру, история КГБ эпохи холодной войны демонстрирует полнейшее психологическое соответствие состоянию советского общества того времени. Его страхи, его фантазии, его абсурдные, бессмысленные страхи перед русской эмиграцией, например. Сюда относятся и всякого рода заблуждения, особенно в отношении США. И наоборот: неадекватность Запада в отношении к России. У меня была привилегия познать это изнутри. И это в огромной мере способствовало моему собственному социальному и психологическому созреванию. Я понимал, что могу использовать этот свой опыт для иллюстрации широких сфер жизни. Именно разведка стала местом действия моей “человеческой комедии””;
– “До 87-го Россия была для меня абстракцией, далекой фантазией, туманным призраком за железным занавесом. А потом, когда я впервые попал в Россию, мое впечатление было таким же, как у любого, кто попадает туда впервые. Когда вы там оказываетесь, трудно поверить, что эти люди могли быть тем самым “грозным врагом” нашей системы. И когда я говорил о сражении двух безумных фантазий, то смысл одной из них состоял в том, что эти люди не имели ни воли, ни возможности разрушить нашу систему. Россия просто не функционировала. В этом и состоял ее самый главный секрет. Другой – это удивительно примитивная жизнь провинции, упадок промышленности и сельского хозяйства. После 87-го года я начал многое понимать. Ясно, что происходило на самом деле. Советский Союз создал некий абстрактный “Роллс-Ройс”, воруя технологии, где только можно. Этот “Роллс-Ройс” – советский военный потенциал, который они долго хранили. Но стоимость производства “Роллс-Ройса” была поистине фантастической, намного больше его рыночной стоимости. Гонка вооружении требовала все больше денег, и постепенно Россия обанкротилась. Последним ходом в этой игре стал план “звездных войн”. Это, если угодно, было политическим выводом из моих первых впечатлений. Люди мне понравились. Русских часто представляли и коварными, и наивными в то же время. Я нашел их откровенными, достойными, человечными. После этого Россия меня необычайно захватила”;
– “То, что случилось, ужасно: “красные” цари вдруг стали “серыми” царями, а секретари райкомов – банковскими менеджерами. Абсурд… Из всего этого мы поняли – может быть, слишком поздно, – что нужных, подходящих людей в России не существует. Произошло примерно то же самое, что после краха нацистской Германии. Тогда пришлось сохранить весь старый бюрократический аппарат, чтобы страна смогла работать. Нужных людей не было в том смысле, что людям некогда было переоценить привычные ценности и пересмотреть свои взгляды. История демонстрирует удивительную способность России и ее людей выживать. Конечно, выживет Россия и на этот раз. Нет таких потрясений, в отношении которых у нее нет опыта. Вопрос лишь в том, как Россия при этом сохранится”.
Тут, вероятно, он прав. Говоря о стране, любой стране, мы пользуемся ее старыми названиями, а она, хоть и медленно, но трансформируется в совершенно иную сущность.
Нечто подобное произошло и при переходе из дореволюционной России в послереволюционную. Лишив дворян права голосовать и подобного, Сталин тем не менее не заменил дворянскую литературу и культуру пролетарской, как теоретически сделал бы Троцкий, а “перенес” ее в новый мир. Конечно, многое при этом “переносе” пропало, но вершины сохранились, даже с критикой, как это было в случае Достоевского.
Г. Иванкина написала: “Многие из нас любят Советский Союз за ту дворянско-рыцарскую цивилизацию, которая в СССР подавалась как… пролетарская. А это лишь только словеса. Нет никакой пролетарской культуры! В Красной Империи культивировались аристократические смыслы. Об этом стали говорить уже в 1920-е годы, когда некоторым товарищам сделалось ясно, что из Синей Блузы ничего путного не получится” [24].
И еще: “Советский Союз (и отчасти ГДР — наследница старой Пруссии) были последними оплотами дворянской цивилизации в XX столетии, ибо в странах капиталистического Запада все позиции заняла буржуазная поп-культура — индустрия развлечений, культ звёзд, снижение планки. При большевиках культуре не предлагали самоокупаться и монетизироваться, она считалась элитарной и — народной одновременно. Больше того — предлагалось и даже заставлялось. Другое дело, что многие сапиенсы попросту не могли это взять. При диктатуре — давились, но кушали. Делали вид. В 1970-х — модничали, ибо каждая повариха желала иметь у себя дома библиотеку. Когда стало можно не читать — перестали” (там же).
Тогда на уровне идеологии мы имели мысли товарища Сталина, но на уровне массового сознания их теснили мысли дореволюционной России, которые изучались и в школе, и в университетах, и реализовывались в культуре.
Тогда нам придется добавить сюда и такие слова: советская культура получила все самое сильное не из советской идеологии, а из идеологии дворянской, сформированной в дореволюционное время. Та литература удерживала мозги, поскольку она была “читабельной” и с мыслями. Создаваемая современными писателями литература имела естественный крен в сторону пропаганды. Тогда и корни развала СССР в массовом сознании нам придется увидеть там же. СССР был парадным портретом, а человеческая реальность была иной.
Идеология, конечно, продвигала в массы правильные мысли,в результате чего получались не всегда приятные цифры соцопросов. Медиа диктовали людям их приоритеты, но одновременно следует признать, что проникновение медиа все равно останавливает незатронутыми огромные пласты сознания. Контролируемое сознание – это одной, а неконтролируемое – это другое.
Л. Шлосберг говорит о результатах соцопроса Левада-центра, где Сталин возглавил все и вся: “Цифры на самом деле впечатляют. Ведь люди выбирали не из списка предложенных фамилий, а сами называли эти десять имён. И рядом с Пушкиным (34%), Гагариным (20%), Львом Толстым (12%), Лермонтовым (11%), Ломоносовым (10%), Менделеевым (10%) — Сталин (38%), Путин (34%), Ленин(32%), Пётр Первый (29%), Жуков (12%), Екатерина Вторая (11%), Суворов (10%). Все цифры, конечно, относительны. Но показательны. Чьё это зеркало? Это во многом зеркало телевизора — той картины мира, которую формирует у людей само государство. В этой картине мира никакой ясности о роли Сталина в истории нет, но есть популярный киногерой «Сталин» — вождь, тридцать лет руководивший государством. Культа личности Сталина сейчас нет, но есть тень этого культа — миф о Сталине. Этот миф продолжает жить в сознании десятков миллионов людей. Власти ничего не делают для развенчания этого мифа. Наоборот, они его аккуратно поддерживают. Потому что миф о Сталине оказался политически выгоден Владимиру Путину” [25].
В самом опросе Левада-центра это выглядит вообще угрожающе. Первая пятерка выдающихся людей там такова: Сталин, Путин, Пушкин, Ленин, Петр I [26]. Причем Сталин даже “приупал” – в 2012 у него было 42%, а у Путина – 22%. И это понятно, поскольку молодежь мало или ничего не знает о репрессия – таких 41% [27].
Л. Гудков объясняет сложившуюся ситуацию так: “есть массовый запрос на такую фигуру, на миф о Сталине, на идеализацию советского прошлого. Связано это с очень неоднозначными причинами. Тут и потребность выразить недовольство настоящим положением дел, и подъём тёмного русского национализма, имперских настроений. В общем, это связано с попыткой изжить травму несостоятельности построения демократии, травму распада СССР. Очень глубокими фрустрациями. Вообще пик популярности Сталина прошёл (он был в 2012 году), сейчас снижается. Это устойчивый тренд. И он особенно значим для молодёжи. Это не про любовь или рост числа сталинистов. Это про несостоятельность понимания своего прошлого. Такая моральная тупость российского общества” [28].
С этим, несомненно, не согласился бы Д. Дондурей, будь он сегодня жив. По его мнению, идет конструирование этого образа в массовом сознании. Он высказывается так: “Основным официальным советским мифом 70 лет был образ Ленина как вождя мирового пролетариата. Потом он как-то завял, а сейчас практически исчез. Сталин его полностью затмил, поскольку в значительно большей степени выражает гигантский смысловой потенциал той особой российской протофеодальной культуры, которая удивляет каждого, кто в великих произведениях Гоголя и Салтыкова-Щедрина легко узнает реальных людей и живые картинки 2010 года. Казалось бы, как можно в эпоху Интернета видеть модели поведения, характерные, скажем, для Смутного времени начала XVII века или для периода Архипелага ГУЛАГ. Оказывается — возможно. Малоизученные культурные матрицы непонятным образом — из века в век — воспроизводят элементы знакомой системы жизни буквально всюду — в экономике, в действиях власти, в морали, в типе личности и способе насилия, в тех самых условиях существования, в которых «властьсобственность» и тогда, и сейчас пишутся в одно слово. Колоссальный успех Сталина как мегамедийной фигуры, на мой взгляд, объясняется не тем, что он куда более эффективный менеджер, чем Ленин, нет, он — настоящий византийский император” [29].
И еще как бы в продолжение Дондурей пишет: “Культура — это смысловые основания всей нашей жизни, формальные и неформальные практики, всевозможные модели поведения. А еще — многообразие факторов, за этим стоящих. Скажем, технология двоемыслия или природа неуважения к труду, приоритет распределения ресурсов и продуктов, неформальных связей. Чего здесь только нет! Надо быть чутким, быстрым, ловким — все знать. И успешные люди в нашем социуме все это превосходно умеют делать. Вот либерально мыслящие публицисты говорят: «Ну, это пропаганда». Вообще-то «пропаганда» — это всего лишь продвижение каких-то программ — любых. Просто так принято, удобно обозначать официальные интерпретации происходящего, чтобы не заниматься проектированием системы. Я не слышал, что где-то появились группы экспертов — пусть и сверхзасекреченные, — которые занимаются разработкой альтернатив культурной перезагрузки. Она, судя по всему, не планируется. Поэтому будем продолжать жить с чуточку модернизированными представлениями 30-х годов прошлого века. Будет тот президент или этот — сохранятся все те же смысловые конструкты, которые я готов хотя бы частично назвать. Речь идет о сверхценностях, которые предписывается сохранить любой ценой” [30].
И еще о том, что все могло сложиться и по-другому: “Гайдар и его команда знали, где в семи-восьми местах следует обрезать экономику социализма. Но не понимали — я говорил об этом с Егором Тимуровичем, — что любые экономические реформы обречены без трансформации культурной модели социализма в сознании всех акторов действующей Системы. Протофеодальная культурная матрица, в конечном счете, их трансформирует, приспособит и с помощью разного рода имитаций вовлечет в свои недра. Одурачит и перекодирует. Я уже говорил о том, что действует выдающаяся и очень устойчивая по своему потенциалу смысловая платформа управления нашей жизнью” (там же).
Все это, как и известная теория колеи, говорит о том, что очень трудно перейти в иной тип функционирования, когда определенная данность нависает над ментальностью. Но еще точнее можно сказать, что власть и не хочет уходить из этой ментальности сама, поскольку такая патриархальная модель власти ей самой очень выгодна. Ей в ней хорошо и удобно.
Дондурей видит это как такой вечный потенциал государственного счастья, а другого оно и не хочет. Интересы власти лежат не в трансформации страны, а в сохранении себя во главе: “Мне кажется, потому что Сталин в большей степени выражает гигантский потенциал такой “особой” российской трансисторической, протофеодольной культуре – той, которая позволяет нам в великих произведениях Гоголя и Салтыкова-Щедрина видеть события 2010 года и 1960 года, или в целом ряде других вещей, каких-то представлений, когда мы видим сегодня какие-то отношения – например, XVII века, или всю гигантскую деятельность, связанную с освобождением крестьянства в XIX веке, и так далее – все это внеисторическое. То есть, отношение к российскому человеку, к экономике российской, к власти, к человеческой жизни, к насилию, к будущему, к прошлому, “власть-собственность” и так далее – гигантский, беспрецедентный имперский культ. “Государство как империя” – вот эта византийщина. Сталин – лучший византийский император, чем Ленин, намного лучший” [31].
Связь Сталина с жесткостью государства видна и в такой связке. В. Багдасарян отмечает: “одна закономерность, существующая в динамике популярности сталинского образа, обнаруживается в его корреляции с конфронтационностью России с Западом. При актуализации конфликта рейтинг Сталина находился в динамике роста, в ситуации потепления отношений — снижался” [32].
Мы видим, что Сталин является маркером того или иного положения страны, внутреннего или внешнего. То есть оценивается даже не он, а общая ситуация в стране, что косвенно выходит на оценку и Сталина.
Советский человек привык жить в раздвоенном, “растроенном” мире. Нигде так не было распространено “двоемыслие”, как в СССР. В более мягкие годы (типа оттепелей, которых насчитывают несколько) оно прорывалось наружу, порождая сильную литературу и культуру, которая жила дольше, чем обычные произведения, как и положено в виртуальном пространстве. Поток гайки закручивались, сначала в информационном, а потом и в физическом пространстве. Советский человек по сути привык верить не тому, что он видел перед глазами, а тому, о чем писала газета “Правда” или той или иной правильный фильм.
Физическая реальность тоже двоилась и крошилось. В одном случае можно было одно, в другом – другое. Параллельная ей виртуальная реальность тоже сразу же менялась, в ней сразу появлялись разные друзья и враги.
Что оказывалось в основе? Ужасный вариант псевдо-реальности. Дондурей отвечал: “сегодня эмпирическая реальность и предлагаемое телевидением представление о ней — виртуальная реальность — практически неразделимы. Подавляющее большинство зрителей их попросту не различает, тысячи раз в день переходя из одной (полупридуманной, отредактированной создателями телепродуктов) — в другую (всамделишную, неотредактированную)” [33].
И еще: “В тысячах американских фильмов и сериалах прямо или косвенно пропагандируются такие важные гиперидеи, как уважение к частной собственности, к труду, к инициативе, к творчеству, к знаниям. Если в них появляется художник или ученый, то он никогда не будет идиотом, бедным или аутсайдером. Он может быть только странным, правда, может быть и злодеем. Российское телевидение тиражирует абсолютно противоположные приоритеты и взгляды. Здесь — все наоборот: в отечественных сериалах, фильмах, новостях — тотальное неуважение к частной собственности, к чужому добру, успеху, мнениям. Мне до сих пор непонятно, почему наши политики и олигархи позволяют медиа глумиться над столь важными вещами. Вряд ли, как люди серьезные, они делают это бессознательно. Но то, что творится в пространстве массовых представлений, а следовательно, и в реальной действительности, — просто поражает”.
Именно поэтому фигура Сталина каждый раз находит свое новое пристанище в массовом сознании. Имеющиеся западные исследования демонстрируют, что путем продвижения Гитлера в массовое сознание является массовая культура. Любое появление в массовой культуре, даже отрицательное, ведет к активации образа в массовом сознании. Гитлер, утрируя говоря, приходит прямо в дом, становясь вполне привычной вещью.
Для государства во всем на первом месте стоит влияние, лишь потом информация. Безграничные ресурсы, идущие на пропаганду, позволяли каждый метр нужной виртуальности делать родным и близким. Даже дети были окружены “забором” пропаганды. Был мультфильм о крейсере “Аврора”, правда, признаем, что для анимационного кино это был редкий прецедент. Ленин был тоже маленьким, например, в рассказах Зощенко и на звездочке октябренка.
Причем детская лениниана огромна. И это достаточно качественные тексты, послужившие и пропаганде: “Из этих детских произведений пошли в народ легендарные крылатые выражения Ленина: «Мы пойдем другим путем», «Учиться, учиться и учиться», «Кто не работает, тот не ест». На них – а вовсе не на мудреных книгах самого Ульянова (Ленина) – во многом основывался образ справедливого и обаятельного вождя. И этот миф исправно работал, сплотив несколько поколений. Поскольку каждый советский человек узнавал о «нашем Ильиче» чуть ли не с колыбели, относились к нему почти как к родственнику. Кстати, формула про «дедушку Ленина» тоже из той самой детской ленинианы…” ([34], см. также [35 – 38].
Причем это были самые отцензурированные тексты, как в плане фактажа, так и в плане авторов, как для детей, так и для взрослых. Даже авторство подлежало особому контролю и вниманию: “Писать о Ленине позволялось не каждому. Право “воспеть” вождя нужно было заслужить. Среди поэтов такое право получили Маяковский, Пастернак, Твардовский, Вознесенский; в прозе начало “ленинианы” положил не кто-нибудь, а Горький. Воспоминания о Ленине Крупской и Бонч-Бруевича переиздавались ежегодно огромными тиражами, а вот Валентинову и Троцкому не повезло – их мемуары стали широко доступны после распада СССР. Но распад СССР обозначил и другую тенденцию. Затеянное “Политиздатом” в 1989 году десятитомное собрание воспоминаний о Ленине прекратило свой выход в 1991 году на восьмом томе. “Живой Ленин” стал неактуален. Как и пьесы о Ленине Михаила Шатрова, которые накануне и на заре “перестройки” многим казались такими смелыми. Отдельный разговор – детская “лениниана”. На этой ниве трудилась Мария Прилежаева, канонизировавшая образ вождя для детей и юношества. Но о “дедушке Ленине” писал и Михаил Зощенко (“Рассказы о Ленине”)” [39].
Уже тогда “насильственное” распространение этих текстов вело через некоторое время к их переосмыслению в более “низовые формы культуры [40]:
– некоторые из зощенковских рассказов о Ленине послужили основой для анекдотов:
М. Зощенко:
— Тут для вас, Владимир Ильич... рыбешку поймали... Закоптили в лучшем виде... И вдруг рыбак видит, что Владимир Ильич крайне недоволен. И даже нахмурился. Рыбак смутился еще больше и сказал: — Уж пожалуйста, Владимир Ильич... Примите подарок... Но Владимир Ильич не взял эту рыбу. Он строго сказал: — Благодарю вас, товарищ, но я не могу принять вашу рыбу. У нас в стране дети голодают.
Анекдот: - Владимир Ильич, к вам ходоки! — А что они принесли? — Свежей рыбки. — А шли они сколько? — Две недели. — Детям, все детям";
Точно так произошло с известными “ходоками” с картины В. Серова: “Как и в случае с рассказами Зощенко, чрезмерная умильность и пафос картины породили огромное количество анекдотов про ходоков и «доброго» Ильича, а если вы наберете название картины в поисковиках, выскочит немало остроумных «фотожаб».
Анекдот: Приходят как-то к Ленину ходоки из деревни: — Владимир Ильич! Отмени продразверстку, от голода всю траву сожрали, скоро мычать начнем. — Неправду говорите: мы давеча с Феликсом Эдмундовичем бочонок меда навернули. И ничего — не жужжим!".
Перед нами известный переход от возвеличивания к осмеянию. Слишком сильное завышение приводит к такому сильному, но уже занижению.
В Союзе приходилось еще учитывать наличие двух вождей – Ленина и Сталина, которые в ментальной плоскости бесконечно пересекались: “Как птенец кукушки в чужом гнезде, в послевоенные годы Сталин постепенно вытеснил Ленина из советской мифологии, но в 1956 году ситуация вдруг изменилась. Имя Сталина было удалено из детской литературы, книги о нем изымались из библиотек и отправлялись на склады. Сталинскую премию переименовали в Государственную литературную премию. Чтобы заполнить идеологический вакуум, в том же году Центральный комитет партии принял резолюцию, призывающую писать больше литературных произведений о Ленине. Мария Прилежаева сравнивает эту ситуацию с прорвавшейся плотиной. Вся классика жанра была немедленно переиздана, книжные издательства и журналы наводнили сочинения о Ленине в прозе и стихах. Особенно много их появлялось в связи с различными юбилеями, например в связи с пятидесятилетием Советского Союза в 1967 году и со столетием со дня рождения самого Ленина в 1970-м. Этот жанр был весьма выгоден для писателей, произведения о Ленине печатались огромными тиражами, постоянно выходили новые издания, государственные награды и премии подобной литературе были гарантированы. Практически все моменты жизни Ленина попали в книги. Опирались всегда на мемуары и потому рисковали повторением уже написанного. Во время оттепели Ленин превозносился не только как великий человек, но и как политик и идеолог. Были предприняты попытки вместо рассказа об отдельных эпизодах его жизни сконструировать нечто целое” [41].
И еще о том, что все известные писательские имена не прошли мимо этой тематики: “Сергей Михалков не остался в стороне от веяний времени. Свою любовь к Сталину он теперь перенес на Ленина. В поэме «На родине В.И. Ленина» (1969) он описывает посещение Музея Ленина в Ульяновске (бывшем Симбирске). «Дыханье затая», он входит в дом, где Ленин жил в детстве, но описание предметов и фотографий скучно и многословно. Столь же неубедителен в работах о Ленине и Юрий Яковлев. В одной из них, «Первая Бастилия» (1965), Ленин принимает участие в забастовке студентов Казанского университета в 1880-х годах. Яковлев также не забывал раздувать патриотические настроения в простых текстах для маленьких детей” (там же).
Все исчезает из истории, если его не поддерживать в современности. Сегодняшнее российское государство скорее борется с Лениным, чем поддерживает его образ. Вообще советский период частично “проваливается” в истории.
Л. Данилкин в разговоре с А. Каном говорит: “Идентичность безумного фанатика, кровавого палача навязывается Ленину не только на Западе, но и в России. В том числе и потому, что Ленин со своим “Государством и революцией” – абсолютный антагонист путинской России. И самая успешная стратегия борьбы с ним – либо прямая демонизация, либо окарикатуривание и смещение на периферию. Хорошая иллюстрация того, как нынешнее государство обходится с Лениным – назначенное было на день его 150-летия, 22 апреля, голосование по пресловутым поправкам в Конституцию. В ленинскую дату заливается новое содержание, позволяющее людям не зацикливаться на классовых противоречиях и тревожных воспоминаниях о революционном прошлом. Пусть лучше они сфокусируются на тех благах, которые им предлагает сегодняшнее государство – выходной день, пособия и т. п. Это “новое содержание” может быть очень разнообразным – знаете, например, как зовут лидера группы Little Big, которая должна была поехать от России на “Евровидение”? “Ильич”. И это тоже, мне кажется, не случайно, это все тот же процесс вытеснения Ленина, намеренного замещения всей окололенинской повестки разными феноменами поп-культуры. То есть власть пока еще не запрещает Ленина напрямую – но она выводит Ленина из области политического и делегирует распространение контрреволюционных представлений о Ленине поп-культуре. Отсюда и эти сериалы о Ленине, в которых нам мягко намекают на то, что он – немецкий шпион и кровавый палач” [42].
Это какая-то сложная “карусель взглядов”, которой пытаются управлять, по ходу меняя приоритеты. Мы живем в мире динамично меняющейся истории, когда каждый раз ее подгоняют под текущие задачи.
Еще сильнее “правильность” текстов была всегда выражена в медиа. Объяснить это можно просто. Художественное произведение создается долго, на него нельзя полагаться в дне сегодняшнем. Именно здесь работает не столько производство, как тиражирование смыслов. А оно по массовости своей продукции даже важнее любого другого производства.
Д. Волков видит в истории прессы важный переход от информирования к влиянию: “пресса все в большей степени отходила от скромной, но понятной роли информирования потребителей о происходящих событиях и во все большей степени диктовала этому потребителю мнения и оценки, весомость которых определялась не их содержательной частью, а авторитетностью средства массовой информации” [43].
И примеры современных телевизионных политических ток-шоу вообще демонстрируют исключительно процессы влияния, направленные на массовое сознание, поскольку новая информация там в принципе отсутствует. Причем в них зада крен в сторону негативации объектов, о которых они повествуют. По этой причине они столь интересны как власти, поскольку повествуют о ее “врагах”, так и населению, поскольку для массового сознания негатив всегда интереснее позитива.
Д. Волков вообще не видит возможности существования независимой прессы: “тоталитарные режимы, не дозволяющие множественности интересов, никаких проблем с обоснованием независимости собственной прессы не испытывали. Принятое в англосаксонской прессе физическое отграничение комментария от информации отчасти решает эту проблему. К сожалению, неизбежный отбор информации, выходящей за рамки непосредственных интересов целевой аудитории, и клиширование этой информации в удобных и знакомых местной публике формах сами по себе являются своего рода редакционным комментарием. Радио- и тем более телевизионная трансляция новостей дополнительно ухудшают ситуацию по причине краткости и узости новостных выпусков и более жестких требований по упрощению их стилистики. Из этого следует, что независимость прессы как объективного транслятора картины мира в нынешних условиях недостижима” (там же).
Тут следует добавить другой важный фактор – никто и не стремится к созданию такого независимого информационного потока, поскольку всегда и везде побеждает, с одной стороны, необходимость достижения политического влияния, с другой, финансового результата. Медиа не находятся в безвоздушном пространстве, на них всегда “давят” эти два фактора, в результате принципиально трансформируя информационные потоки.
А. Ахиезер, анализируя книгу Г. А. Гольца. Культура и экономика России за три века, XVIII–ХХ вв. Т. 1. Менталитет, транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее), говорит о принципиальной ошибке в понимании базы страны, которую зафиксировал Гольц: “В основе понимания сути урбанизации у Гольца лежит представление об урбанизированной культуре. Осмысление урбанизации на этой основе дает совершенно новый материал для переосмысления истории России. Расчеты Гольца показывают, например, что на рубеже ХIХ и ХХ веков урбанизация составила два процента по сравнению с официально принятыми 14 процентами, а в 1917 году — три процента при официальных 18 процентах. Даже если ограничиться лишь этими данными из трехвекового ряда, то становится очевидным, что в ХХ век Россия вступила как крестьянская страна, не готовая ни к капитализму, ни к модернизации, ни к так называемой «руководящей роли рабочего класса». Большевистский переворот выступает как результат антигосударственного, антилиберального, антимодернизационного, антиурбанистского крестьянского бунта, в лучшем случае как результат воплощения идеала «не сойдем с печи» в ответ на действия начальства, которое в соответствии с массовыми представлениями того времени «дурит» и вовсе «не нужно». Можно, конечно, попытаться оспорить данные Гольца. Однако как специалист я могу высказать предположение, что если рассчитанный им уровень урбанизации и придется корректировать, то в основном в сторону дальнейшего понижения” [44].
То есть все анализы нашего исторического процесса глубоко ошибочны, все было не так, поскольку не было того фундамента, на который можно было опираться. Не было ни рабочего класса, ни урбанизации.
Это пример отсутствия социальной детерминированности. Вот пример индивидуальной детерминированности поведения. Дж. Кимель, специалист по насилию и возмездию в насильственных преступлениях, пытаясь объяснить поведение Трампа, говорит о новых исследованиях, в которых обнаружено следующее: “подобно тому, как люди получают зависимость к наркотикам или игре, люди могут стать зависимыми в поиске возмездия для своих врагов – зависимость от жажды мщения. Это может помочь объяснить, почему некоторые люди не могут забыть свои обиды, когда другие считают, что они давно должны были оставить их позади, почему некоторые люди прибегают к насилию. Следует попытаться понять, помогает ли это объяснить фиксацию Трампа на своих обидах и получения за них возмездия. Признак зависимости – компульсивное поведение, несмотря на пагубные последствия. Неустанные попытки Трампа отомстить тем, кто, по его мнению, обошлись с ним несправедливо (в том числе теперь и американским избирателям), кажутся навязчивыми и неконтролируемыми. Вред, который он несет себе и другим, совершенно понятен, но он не имеет сдерживающего эффекта. Он делал это всю свою жизнь. У него нет сил остановиться. Он также получает от этого удовольствие. Наука о зависимости дает еще один предостерегающий вывод: привычка Трампа мстить причиняет вред не только ему самому и объектам его гнева в ответ, но и всем нам” [45].
А ведь это и модель поведения многих наших первых лиц, заданная Сталиным, который говорил о мести, что – “это блюдо, которое нужно подавать холодным”. Сталин хорошо помнил своих врагов. Например, смерть настигла Троцкого только в 1940 году, а уехал он в 1929 [46].