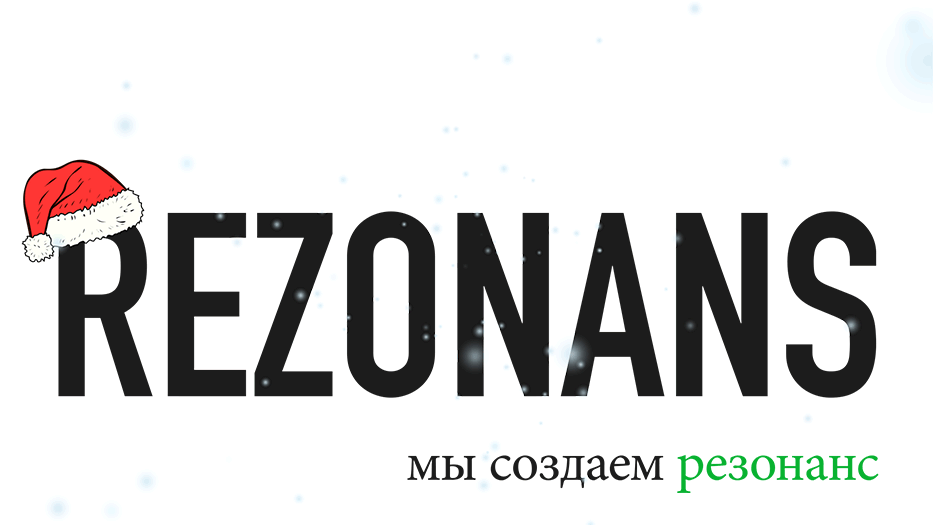Опасаюсь, что окончание первого поста этого сериала могло вызвать у читателей недоумение и убеждение в том, что я сослался на некоторый маргинальный фрагмент эволюции науки. Если бы! На самом деле речь шла о частном нейрофизиологическом подтверждении более общих современных представлений о нас, о познание, о науке, о живом и жизнеспособном. Эти представления, которые я разделяю, называют «эволюционная эпистемология». Из всех философских доктрин, включающих человека в качестве объекта умствований, эта, по моему мнению, во-первых, проникнута наибольшим уважением к человеку и его способностям и, во-вторых, в наибольшей степени корреспондируется с резко расширяющимся научным знанием о нас самих.
3. НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ ОТ КОРИФЕЕВ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
Лауреат Нобелевской премии основатель этологии биолог Конрад Лоренц отождествлял жизнь и познание (почитайте его «Оборотная сторона зеркала»). Вдумайтесь. Довольно очевидно: когда мы умираем, мы перестаем познавать. Но в некотором смысле верно и обратное: каждому организму (даже нашему бренному) познание окружающего мира необходимо как механизм адаптации и значит – выживания. Отказ от такого механизма равносилен смерти. Мы сравниваем несчастных людей, которые в результате тяжелой болезни утратили связь с окружающим миром, с растениями. Равным образом выживание нашего вида homo sapiens обеспечивается таким важным институтом нашей культуры как наука. И вот что интересно! Наука в сфере научной коммуникации и эволюции научного знания функционирует подобно тому, как это трактуют современные теории работы мозга: и там, и там строятся и проверяются модели. Только в науке нейроны – это сами ученые. И коммуникация более изощренная.
Но мы можем продвинуться дальше, используя тезис Лоренца, и перейти к любым крупным социальным сообществам. Адепты эволюционной эпистемологии склонны причислять их к миру живого (жизнеспособного). А значит и на них также распространяется тезис Лоренца. Рассмотрим государство (в широком смысле этого слова – власть и общество вместе); это тоже сообщество. Государство должно сочетать стабильность с адаптивностью, как любой живой организм. Представим себе, что в некий момент этому государству удалось полностью стабилизировать власть, до полной несменяемости. И это еще не все. Предположим, что мы сошлись на том, что мозг государства расположен где-то там, где и власть. И предположим, что эта власть полностью стабилизировала свои представлении о себе, об обществе, об окружающем мире. И этот «мозг» не хочет знать ничего, что могло бы смутить и поколебать их модели. В этот момент государство (целиком) утратило качество жизнеспособности, оно перестало принадлежать к миру живого. Я прошу вас запомнить сей печальный вывод, поскольку он понадобится нам в будущем.
Если жить значит познавать, то что это такое – познавать. Ну уж тут, конечно, не могло обойтись без сэра Карла Поппера. В своей статье «Эволюционная эпистемология» он проявляет себя наиболее экспансивно (из того, что я прочитал, конечно). Традиционную теорию сознания (включающую, конечно, восприятие и индивидуальное познание) он называет «бадейной» (и я разделяю эту эмфазу). Он описывает (и рисовал на доске в лекциях) этакую голову в форме деревянной бадьи, в которой в деревнях готовят корм для свиней, с несколькими дырками, олицетворяющими органы чувств. Через них в голову вливается всяческая информация о внешнем мире. И из нее мы индуктивным путем строим свои представления о последнем. Поппер отрицает эту примитивную модель в силу того, что в ней процесс познания пассивен. Для Поппера познание и восприятие как часть познания – активные процессы. Ибо и жизнь, и познание – это действие. Эффективное действие в силу тождества двух этих процессов. И как же Поппер представляет себе это действие (познание)? Да ровно так, как это трактует теория байесовского мозга: построение моделей внешнего мира и их постоянное тестирование посредством органов чувств. И ничего удивительного, что это совпадает с тем, как трактует Поппер развитие самой науки. Ведь он всю жизнь занимался философией науки. Только теории строят люди в процессе коммуникации, и они же их тестируют и критикуют.
Поппер обогатил эволюционную эпистемологию следующим тезисом, очень точным и напрямую вытекающим из сути самого термина: «биологическая функция всякого знания – предвосхитить, что произойдет в окружающей нас среде». И ведь это также следует из активности познания, а также из эволюционной сущности знания. Ведь что такое мутации, накапливаемые видом при репродукции? Это банк ресурсов выживания в случае непредсказуемых будущих вызовов и проблем. Если мы говорим о выживании нашего вида, то данный тезис должен применяться к науке, фундаментальной, в первую очередь. А отсюда недалеко и до очевидных следствий. Фундаментальная наука столь же важна для выживания сапиенсов, что и традиционная репродукция. Или: централизовано управлять фундаментальной наукой столь же опасно, как диктатору управлять производством мутаций при репродукции.
К числу корифеев эволюционной эпистемологии часто причисляют чилийского биолога Умберто Матурану. (На русский язык переведена замечательная книга, которую он написал вместе со своим учеником Франсиско Варелой – «Древо познания»). Матурана рассматривает живые системы как сети. Для таких сетей он ввел понятие аутопойезиса: когда сети сами порождают свои элементы в процессе взаимодействия, а порожденные элементы конституируют эти сети. Понятие прочно вошло в науку. Например, на базе этих идей Никлас Луман, великий немецкий социолог, построил самую фундаментальную из теорий современного общества. Ну так вот, Матурана и Варела сформулировали следующий великий тезис: «Внешние воздействия на живые системы неинструктивны». Здесь под живыми системами понимаются в том числе и социальные системы. «Как это не инструктивны!?» – можете спросить Вы – «И законы что ли неинструктивны?». И законы тоже. Хотите пример? Пожалуйста. Вот вы реформируете экономику России в 90-е годы. Вы намереваетесь ввести институт банкротств, и для этого принимаете соответствующий закон. И вы ждете, как на основании этого закона собственность начнет перетекать от неэффективных собственников к эффективным, как во всех цивилизованных странах (поскольку в законе и записана инструкция). И, тем самым, экономика будет здороветь. Но через некоторое время вы наблюдаете, как неэффективные собственники при коррупционном сговоре с чиновниками и судьями начинают отбирать собственность у эффективных собственников, используя ваш принятый закон. Вот такое воплощение инструкции и мечты.
Но меня больше всего потрясло, как в конце своей книги, о которой я говорил выше, Матурана и Варела обосновывают, что любовь стала важным стимулом возникновения языка и социальности. Но к данному повествованию это не относится.
4. МОИ ШЕСТЬ ПЕНСОВ
При всем моем уважении к представленному выше направлению социальной мысли, есть нечто, что мне в нем серьезно недостает (за одним исключением). Но это нечто важно и само по себе, и для нашего сюжета. Сейчас я объясню, это очень интересная история. Опытные следователи часто говорят: «Нет ничего более ненадежного, чем показания очевидцев преступления». И действительно, очень часто им приходится сталкиваться с ситуацией, когда один очевидец говорит, что машина была черная, а другой – красная; что преступник был высокого роста с бородой, а другой утверждает – он был среднего роста с усами; и так далее. Это, кстати, работает на концепцию байесовского мозга. Ведь в быстротечной ситуации мозг не успевает собрать много тестовой информации, чтобы построить надежную модель. Он (мозг) пользуется всяким подсобным мусором – недавно прочитанным вами детективом или вчерашней телевизионной хроникой; или внешностью одного неприятного вам типа; короче, чем подвернется. Но когда дело доходит до объяснения, как работает байесовский мозг, его способности относятся исключительно на счет наших потрясающих нейронных сетей, могущества долгой эволюции, создавший столь совершенную конструкцию как этот небольшой комок нейронов, поглощающий 20 процентов энергетических ресурсов нашего организма.
Но как тогда быть с экспериментами этнографов, изучавших современные нам примитивные племена? Когда женщине из такого племени показывают фотографию ее сына на фоне дерева, то она, во-первых, его не узнает, а, во-вторых, говорит, что это неизвестный ей мужчина ее племени, у которого из головы растет дерево. Что-то не срабатывает. И вообще, если то, что мы видим, есть модели, предлагаемые нашим мозгом, то как мы все можем видеть одно и то же: кошек принимаем за кошек, одинаково отличаем алые розы от красных гвоздик, и так далее? Что-то еще упущено во всей это красивой конструкции. Но об этом, очень важном, в следующем посте.
Продолжение следует