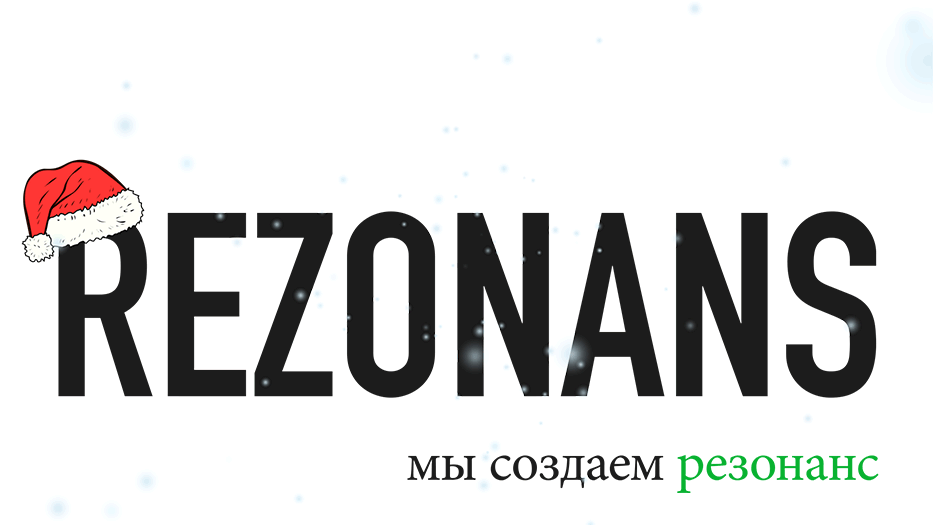Несколько месяцев назад в России состоялись выборы региональных парламентов, и они остались бы незамеченными, если бы результаты не выделялись из традиционной для авторитаризма парадигмы предсказуемости и стабильности. Однако на этот раз оппозиционные партии смогли увеличить свое представительство в законодательных органах, обойдя партию власти сразу во многих округах. Особенно ярко оппозиция выступила в Москве, завоевав почти половину из 45 мест в столичном парламенте — Московской городской думе.
Успех на выборах многие связывают со стратегией «умного голосования», инициированной политиком Алексеем Навальным. Он призвал голосовать за самого сильного оппозиционного кандидата, способного бросить вызов «Единой России», вне зависимости от отношения к нему и партии, которую тот представляет (КПРФ, «Яблоко» или «Справедливую Россию»). В 20 московских округах выиграли кандидаты, которые были включены в список «умного голосования». Это позволило Навальному и его сторонникам объявить результаты выборов своим достижением. «На выборах в Мосгордуму победил Навальный», «Фантастическая победа оппозиции», «Фактор Навального» — с такими заголовками вышли материалы либеральной прессы. Навальному часто удается захватить общественное мнение, он может навязать свою интерпретацию в информационном пространстве так, что его оценки становятся общепринятыми. Тем важнее становится взвешенный анализ. Но именно здесь этого не произошло. Научную экспертизу подменила эмоциональная реакция на неожиданный успех оппозиции.
Так, например, широко растиражированные и положительно принятые оценки аналитика Бориса Овчинникова об эффективности «умного голосования», которые он изложил на своей странице в Facebook, были построены на измерении разницы между результатами кандидатов, включенных в «список Навального», и результатами кандидатов в него не включенных, невзирая на тот факт, что шансы кандидатов уже заложены в систему «умного голосования» в качестве ее основополагающего критерия. Иными словами, потенциал кандидата выступает в качестве объясняющей переменной и по отношению к попаданию в список «умного голосования», и по отношению к конечному результату на выборах. А это значит, что мы сопрягаем между собой две зависимые переменные, нарушая принцип последовательности событий. Выводы, полученные по такой модели, становятся бессмысленными, потому что связь между рассматриваемыми переменными опосредуется через третью переменную, выведенную за рамки анализа. Свои выводы Овчинников также сделал на основе сравнения результатов одной партии — КПРФ, что не только не позволяет производить точные измерения, но и ведет к генерализации частных случаев (поспешным обобщениям) и, следовательно, к сильным натяжкам.
Другие политологи, анализирующие результаты московских выборов, практически солидаризировались с мнением экономиста Кирилла Рогова, что «вычленить вклад «умного голосования» не представляется возможным, но интуитивно можно предположить, что он составил около 200 тысяч голосов» (12,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании).
Эксперты настолько свыклись с провалами оппозиции, что ее относительный успех стал рассматриваться как уникальный и объясняться тактической новацией под названием «умное голосование». Однако это объяснение выходит таким же нелепым, как ответы первокурсников политологических факультетов на задачу о связи количества овец с числом профессоров на определенной территории. Абсурдно строить аналитические заключения на интуитивных предположениях: политологи делают неверифицируемые выводы, обретающие статус веры. Но в теологии, как известно, рационального анализа не существует.
Чтобы разобраться в роли «умного голосования», надо понять, что оно собой представляет. «Нам нужно, чтобы в «умном голосовании» приняли участие 3% из тех, кто раньше вообще на выборы не ходил, плюс треть от тех, кто и так ходил и голосовал против «Единой России». Просто в этот раз они должны дружно проголосовать за одну фамилию. И тогда мы лишим «Единую Россию» большинства. Важно только то, чтобы они не идеологически голосовали, не за «свою партию», а по-умному». Именно так охарактеризовал свое изобретение сам Навальный.
Голосование по-умному — ни что иное, как тактическое голосование, концепт, появившийся в политической науке несколько десятилетий назад на основе британского опыта парламентских выборов и объясняющий прагматическое поведение избирателей в мажоритарной системе. При таком голосовании сторонники партий, имеющих небольшие шансы на победу, вынуждены выбирать партию с лучшими шансами, чтобы не потратить свой голос впустую. Для нас это также не ново: в России в условиях высоких заградительных барьеров распространена практика голосования за КПРФ как за «наиболее крупную оппозиционную партию», способную эти барьеры преодолеть. Не разделяя идеологическую платформу этой партии, ряд избирателей отдают ей свои голоса, считая наиболее важным наличие в парламентах хотя бы какой-нибудь оппозиции.
Изучающий электоральное поведение британский социолог Энтони Хит настаивает: в основе тактического голосования лежит измерение шансов партий и прогнозирование исходов. Такой вид поведения принципиально отличается от протестного голосования, с которым путают стратегию Навального. При протестном голосовании электорат демонстрирует негативное отношение к политической или экономической ситуации и выражает недоверие к элитам, которые эту ситуацию олицетворяют. Так, некоторые в США голосуют за независимых от двух главных партий кандидатов в президенты, другие на парламентских выборах в Европе делают выбор в пользу популистских партий. Избиратели отказываются от своего прежнего выбора в надежде послать сигнал своей партии, проучить элиты и удовлетворить запрос на перемены.
Парадокс заключается в том, что несмотря на «умную» стратегию, именно протестное голосование и стало основной причиной столь высоких показателей оппозиции на выборах в Москве и других регионах. Наше исследование (.pdf), показало, что «умное голосование» сыграло неоднозначную роль на выборах в Мосгордуму: помогло одним кандидатам, но помешало другим. Только четыре представителя оппозиции выиграли по причине «умного голосования», остальные победили благодаря сочетанию разных факторов. Главными из них стали рост протестных настроений (из-за повышения пенсионного возраста и других непродуманных реформ), сокративших поддержку партии власти, и снижение конкуренции внутри оппозиции вследствие дисквалификации оппозиционных кандидатов (власти сняли с выборов более 50 кандидатов). Эффект тактического голосования составил 5,6% голосов избирателей, в то время как протестного голосования — 11,1%.
Эти цифры совпадают с количественными оценками объема тактического голосования в Великобритании и Германии, не выходящего за рамки 6-7%. Сторонники более высоких оценок не могут объяснить, почему российские избиратели, не доверяющие политическим институтам, не ходящие на выборы и не верящие в то, что их голос на что-то влияет, вдруг стали вести себя тактически. Многочисленные исследования от психологов (Даниэль Канеман) до экономистов (Брайан Каплан) показывают иррациональность избирателей по всему миру. Люди делают выбор на основе идеологических убеждений, предубеждений и систематических искажений вне зависимости от степени зрелости демократии или уровня образованности общества. Немногие россияне, привыкшие голосовать «сердцем» или «ногами», станут по призыву одного политика моментально перестраиваться и голосовать «головой».
Конечно, среди обозревателей находятся те, кто связывает протестные настроения с появлением «умного голосования». Ошибочность такого заключения показывает даже не столько последовательность событий (протесты, изменение социальных установок и предпочтений избирателей начались задолго до появления стратегии Навального), сколько то обстоятельство, что протестные настроения не возникают по желанию лидеров. Они могут поддерживать их уровень на определенное время, но не могут их создавать, если для этого нет подходящих условий (экономических, психологических, социальных). Плохая политика и ошибки власти создают протесты, а не действия оппозиции, сколь эффективными бы они не были. Как пишет исследователь конфликтов Тед Гарр, причина политического недовольства — обиды людей на собственное правительство, из-за которого они несут убытки. Потеря надежды — лучший стимул протестовать и бунтовать.
Иными словами, не «умное голосование» предопределило протестные настроения, а сама стратегия стала возможной благодаря переменам в общественном сознании. Речь, конечно, не идет о том, что победа оппозиционных кандидатов была заранее предопределена, но альтернативной избирательной кампанией и прямым руководством к действию для большинства избирателей стратегия Навального не являлась. Как я уже упоминал, «умное голосование» поддержало тех из кандидатов, кто изначально имел высокие шансы победить, но это не помешало Навальному приписать исход выборов успешности «умного голосования». Приватизация успехов — одна из характерных черт политической культуры российской оппозиции. Победа, которую приписывают себе инициаторы «умного голосования», сродни стратегии игрока, делающего простейшую ставку на победителя.
Эффективность новой стратегии оказалась невысокой — лишить партию власти большинства не получилось. Вдобавок, цель предполагалось достичь формальным путем, без учета реальной оппозиционности кандидатов, что и продемонстрировали первые голосования избранных в парламенты депутатов. Однако стратегия голосования за любую другую партию, лишь бы не за «Единую Россию» не работает, если партийная система имеет картельный характер, а депутаты не способны выдерживать давление исполнительной власти. Изменение пропорции внутри картеля не ведет к существенным переменам: даже формальная потеря административного большинства компенсируется поддержкой партнеров из числа победившей «оппозиционной коалиции», а значит восторг экспертов и избирателей вскоре обернется новым разочарованием.