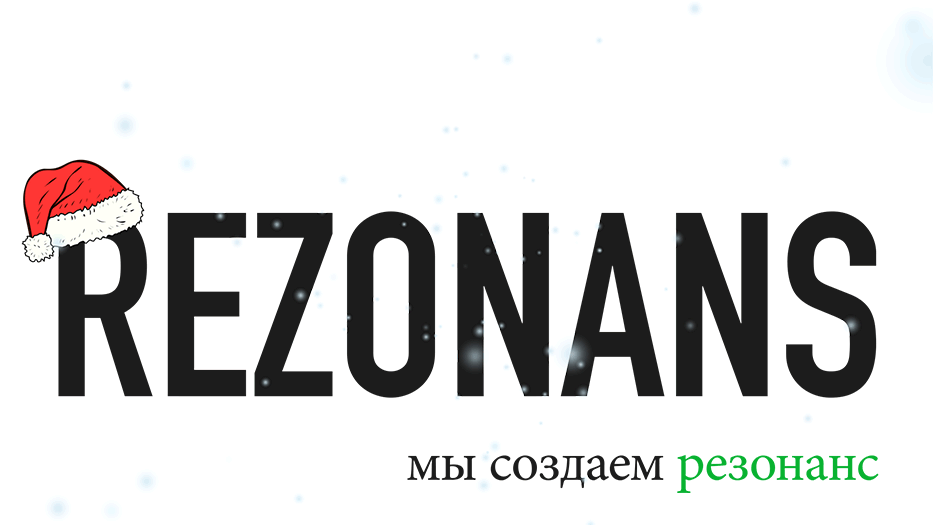В предыдущих статьях цикла мы обсудили тему выборов как таковых. Но для наших дальнейших рассуждений и прогнозов нам понадобятся еще кое-какие идеи. Следующую, очень важную, я начну с одного любопытного и поучительного примера, заимствованного из замечательной книги Джеймса Скотта «Благими намерениями государства».
Дело было в начале XIX века в Германии. Там и тогда начали развивать «научное лесоводство», спрогнозировав, что в ближайшие сто лет главным строительным материалом будет лес, и что нужно производство леса поставить на поток к вящей выгоде государства. Проект состоял в том, что расчищались от дикого, неудобного, хаотического леса большие пространства, которые ровными рядами засевались альпийской сосной. Проект предусматривал, конечно, рекультивацию площадей, на которых вырубался подросший лес, для новых посадок и последующей эксплуатации.
Первый цикл дал положительный результат: доступная добыча легко вырубалась и вывозилась. Более того, объемы заготовок и будущую выручку от продажи было легко подсчитывать и прогнозировать. А это так важно для любого бизнеса, в том числе – государственного. Однако уже второй цикл выявил неприятные побочные эффекты. Оказалось, что в регулярном аккуратном лесу даже небольшие ветры легко валят деревья. Столь же легко в лесу, продуваемом сквозными ветрами, распространяются пожары. Более того, одинокие однообразные сосны такого леса становились легкой добычей вредителей. Не говоря уж о том, что этот организованный лес лишался всех многообразных и приятных свойств обычного леса, кроме одного – быть строительным материалом. Короче говоря, этот простой лес оказался лишенным «иммунитета» по отношению к врагам, от которых была защита у нерегулярного дикого леса. Проект в этом его виде пришлось прекратить, но зато немецкий язык обогатился идиомой «Waldsterbe» (буквально – гибель леса), применявшейся как обозначение крупных провальных проектов.
Джеймс Скотт описал эту историю в качестве примера одного из бесчисленного числа гигантских провальных проектов, затеваемых государством с благими намерениями. Для подобных проектов, предпринимаемых государством в социальной сфере, автор ввел термин: «высокий модернизм». Речь идет об очень важном и распространенном явлении, свойственном государству времен модерна, т.е. тому типу государства, который стал формироваться в Европе в XVIII веке и к которому до сих пор принадлежит моя родина – Россия.
Провалы масштабных социальных проектов в духе высокого модернизма – по Скотту – обусловлены сочетанием трех обстоятельств. Первое – административное рвение власти, стремящейся навести запроектированный ею порядок в обществе. Второе – формирование сильных национальных государств, неограниченная власть которых рассматривалась как средство реализации подобных проектов на благо подданных. Третье – ослабленное гражданское общество, которое не могло противостоять административному ражу и контролировать его.
Высокий модернизм возник как следствие успехов европейской цивилизации в естественных науках, что позволило резко продвинуться в освоении физической природы. Возник соблазн перенести эти успехи в социальную сферу, а тут и подвернись государство как потенциальный глобальный социальный инженер. Идеи преобразования природы, Вдохновлявшие эпоху Просвещения, начали переплавляться в идеи преобразования общества. Более того, считалось, что менять мертвую, бездушную природу гораздо тяжелее: чем менять общество. Ведь оно состоит из разумных людей, которым надо просто объяснить, в чем состоит их благо и как, по какому маршруту попасть в царство разума. Ведь не могут же люди разумные и наделенные душой противостоять своему же благу?!
Древко флага высокого модернизма, поднятого Сен-Симоном подхваченного Контом, держали и руки Кондорсе. Вот как он воспевал это трепещущее полотнище:
«Науки, созданные в наши дни, объект которых – сам человек, прямая цель которых – счастье человека, будут развиваться не менее уверенно, чем физические науки, и радостная мысль, что наши потомки превзойдут нас в мудрости и просвещении, больше не иллюзия».
А ведь впереди был XX век, кульминацией которого стало противостояние двух проектов высокого модернизма – большевистского и нацистского. И этот век дал оценку нашей мудрости и просвещенности. И наступил нынешний век. И у меня тревожное чувство, что мы еще не усвоили уроки предыдущего. Но вернемся к нашему повествованию, с тем чтобы несколько подробнее описать свойства высокого модернизма.
Первое: это безусловное стремление к благу людей при полном пренебрежении отдельной личностью. Когда хочешь облагодетельствовать человечество, то личность для тебя ничто.
Второе: идеология порядка и рациональности, победа порядка над страшными и разрушительными случайностью, хаосом. Безусловно, должно быть помогающее победить хаос научное обоснование, должна быть единственно правильная теория, всепобеждающее учение. Оно может быть глобальным, оно может быть локальным, относиться только к проекту, но оно непременно единственное и всепобеждающее.
Третье: эти проекты всегда ориентированы в будущее при полном игнорировании прошлого. «Весь мир насильем мы разрушим до основанья, а затем…» – вот типичный лозунг «высокого модернизма».
Четвертое: всегда эти проекты пользуются успехом у населения по совокупности причин. Во-первых, конечно, они направлены на благо людей, и люди это ценят. Во-вторых, все эти всепобеждающие учения просты и доходчивы, доступны людям, и потому пользуются народной поддержкой.
Пятое: идеология высокого модернизма не имеет политической окраски. Она может произрастать на почве либерализма, образовывать симбиоз с фашизмом или коммунизмом. Это универсальная идеология. Она порождена только верой во всемогущество власти государства. Модернистские проекты появлялись в США точно так же, как и в СССР.
Шестое: любые всепобеждающие учения безальтернативны; кто сопротивляется должен быть подчинен или уничтожен. Ну, подумайте сами: как можно сопротивляться проекту, направленному на благо людей!?
Конечно, в разных проектах высокого модернизма эти компоненты могут присутствовать не в полном наборе. Необязательно, например, сомневающихся или сопротивляющихся расстреливать или насильно переубеждать; их ведь можно просто игнорировать. Но к реальным проектам «высокого модернизма» мы перейдем в следующей публикации.
Продолжение следует