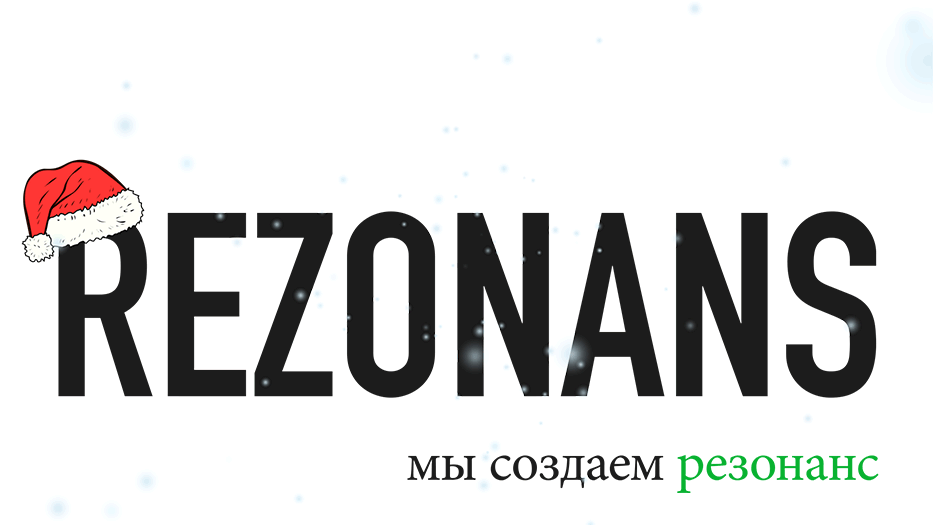Я закончил свой предыдущий пост банальным, вообще говоря, утверждением, и выше уже использованным, о том, что момент транзита власти – это всегда момент неустойчивости. И, по мере приближения этого момента, любой авторитарный режим переживает стресс, который выражается в его поведении. И выражается тем больше, чем драматичнее это ощущение неустойчивости, неопределенности, непредсказуемости. В России сейчас это проявляется особенно остро в откровенной истерике антиправового насилия. Не случайны были выше и мои шекспировские реминисценции. Они подтверждали это, точно также, как это смогла бы сделать и история России.
Тезис, о котором хочу напомнить (см. начала 5-й части этого сериала) в этом финальном тексте, вот в чем. Одно из важнейших свойств либеральной демократии, как одной из форм правовой организации политической власти, состоит в том, что ее правовые механизмы, ценности и традиции минимизируют неустойчивость транзита власти и риски неправового насилия в ходе и в результате транзита. Тут требуется пояснение. Говоря об устойчивости транзита, мы имеем в виду тот факт, что транзит не обрушивает саму правовую систему: кто бы не победил, сама правовая система в целом не меняется; не меняются фундаментальные принципы ее работы. Ну а на насилии я остановлюсь позже.
Теперь я напомню о важнейших компонентах либеральной демократии, которые обеспечивают указанное свойства устойчивости и безопасности транзита. Первое – открытость доступа к политической конкуренции, в основе которой свободные выборы с непредсказуемым результатом. Не случайно пять первых текстов этого сериала было посвящено выборам. Тут есть один интересный нюанс. Именно в президентских республиках, помимо равноправной конкуренции на выборах, именно для президентов всегда существует дополнительное ограничение, блокирующее возможность излишне затянутого пребывания победителя выборов на высшем посту в государственной власти. И, легко заметить, что именно к президентским республикам формально прибегают режимы, далее преобразующиеся в авторитарные или диктаторские.
Вторую составляющую обычно недооценивают. Напомню, что 6-й и 7-й тексты этого сериала были посвящены идеологии и практике высокого модернизма. Понятие это было введено в оборот Джеймсом Скоттом в конце ХХ века. Но социальный инстинкт западной цивилизации гораздо раньше порождал ростки сопротивления идеологической монополии, которая была чревата постоянными «ловушками краткосрочной рациональности». Формально, например – в Конституциях, идеологический плюрализм поддерживался либо религиозным равноправием, как в Американской Конституции, или запретом государственной идеологии, как в Российской Конституции. Но более существенное влияние оказывают традиции и практики мировоззренческого плюрализма. Постсоветским странам, возможно, за исключением стран Балтии, предстоит еще тратить время и усилия интеллектуальной элиты, чтобы этот сорт плюрализма стал естественным. Ведь массовое сознание меняется несопоставимо медленнее конституционных норм. Но эти усилия плодотворны, конечно, только в условиях, когда и нормативно, и на практике поддерживаются свобода слова и свобода распространения информации и доступа к ней. Не случайно, что в таких странах как США и им подобных, общество и правовые институты строго стоят на страже этих принципов.
Третья компонента либеральной демократии, обеспечивающая и ее устойчивость, и беспроблемный транзит власти – это независимость судебной власти и судебных решений. Есть различные способы структурировать институциональное устройство либеральной демократии. Но в любой подобной конструкции судебная власть занимает особое место. Очевидно, что, как бы мы не препарировали либеральную демократию, ее компоненты, получающиеся в результате препарирования, всегда взаимосвязаны, и эффективность одних влияет на эффективность других. Но эти взаимовлияния неодинаковы, обладая различной «силой влияния». Исследования, проводившиеся Фондом ИНДЕМ, показывают, что в иерархии влиятельности судебная власть и ее независимость занимают первое место.
И, наконец, четвертая компонента либеральной демократии – немонополизированный контроль за институтами насилия, от полиции до армии. Это предохраняет от монополии на применения легитимного насилия, которая быстро превращает его в нелегитимное и стоящее на страже поддержания авторитарной власти.
Обратите внимание вот на что. Какой бы авторитарный режим вы не взяли, каждый из них тратит свои усилия на поддержание контроля за результатами выборов, диктует судам важные судебные решения, подавляет свободу слова и пытается вводить идеологический контроль, чаще всего прибегая к религиозному монополизму. И все это подкрепляется монополией контроля за институтами насилия
Но вернемся к транзиту власти. Переход власти из одних рук в другие, от одной партии к другой, от одной программы развития к альтернативной – все это более чем необходимые механизмы сохранения нашей возможности двигаться в будущее, адаптируясь к его непредсказуемости и непредсказуемому нарастанию сложности окружающего мира, в том числе – социального, постоянно изменяемого нами самими. Потребность в настоящем транзите поддерживается представлениями о том, что мир сложен, он быстро меняется, и очень часто меняется совершенно непредсказуемо. Только гибкость политической организации, поддерживаемая полноценным транзитом власти, позволяет нам приспосабливаться к этой сложности, к этим проблемам.
Что же предлагает обществу авторитарная альтернатива? Ее сторонники стараются убедить нас в том, что мир прост, что он легко управляем, что мы вправе планировать наше развитие на 20-30 лет (что, конечно, возможно только в условиях простоты и управляемости). Что для этого необходима стабильность власти и ее предсказуемая преемственность (когда персональная стабильность становится физически невозможной). Поскольку в современном мире невозможно игнорировать институциональные стандарты, то по набору институтов власти авторитарные режимы не отличаются от укорененных либеральных демократий. Но это только фасад. Эти институты либо изначально создаются для решения совершенно иных задач, либо деградируют, утрачивая возможности решения задач, актуальных для общества, и приспосабливаются к решению задач обеспечения стабильности и преемственности власти (в России это происходит уже 20 лет).
Примерно в конце 70-х годов прошлого века (если мне не изменяет память) появились работы американских историков, в которых обосновывалось следующее. Экономика Юга США, основанная на рабском труде, была рентабельнее, эффективнее современной экономики Севера. И именно этот факт стал причиной и борьбы за уничтожение рабства, и Гражданской войны между Севером и Югом. Вот другой пример – экономика СССР времен ГУЛАГа (сталинских лагерей) тоже была эффективна; и по той же причине – рабский труд заключенных. Но обе эти экономики могли существовать только в условиях тотального насилия одной части общества над другой. И обе экономики были исторически обречены, поскольку были ориентированы на потребности прошлого, а не будущего.
Я вспомнил об этом потому, что всегда существует тупик, образуемый разящим противоречием между характером экономики и характером политических институтов. Такое противоречие делает систему обреченной. Но не менее разящим выглядит и противоречие между базовой задачей политического режима и используемыми политическими институтами. Я говорю сейчас о двух противоположных задачах.
Одна задача – развитие. Это очень сложная задача. И пока все, что рождено институциональной эволюцией – это либеральная демократия как политическая система, обеспечивающая решение этой задачи. При всех общеизвестных дефектах. Но эволюция никогда не изобретает ничего совершенного.
Другая задача – стабильность любой ценой; стабильность политической власти, включая ее «персональный состав». Любопытно, кстати, что далеко не вся история эволюции институтов политической власти проходила в условиях реализации именно этой цели. Аристотель считал, например, что лучший механизм транзита – жребий. Но я отвлекся. Говоря о той же истории, мы знаем немало систем политической власти, которые создавались ради такой стабильности. И это было в те древние времена, которым было чуждо понятие социальных изменений. Понадобилось несколько тысяч лет, чтобы догадаться: не помогает. Что ни институты насилия, ни религия не обеспечивают ни стабильности с преемственностью, ни защиты от кровавых побочных эффектов транзита. Что дело не столько в качестве персон, сколько в особенностях институтов.
Сейчас все это немного модифицировалось. Обычно мы имеем дело с политическими режимами, которые движимы древними фундаментальными целями, но приспосабливают для этого современные институты либеральной демократии, корежа их под свои цели. Это экзистенциальное противоречие. И оно помножается на безнадежный тысячелетний опыт нашей цивилизации. Результат предельно очевиден. Он тот же, что и раньше: не помогает. И мне скучно приводить бесчисленные примеры. Они на поверхности, они везде вокруг нас и известны всем.