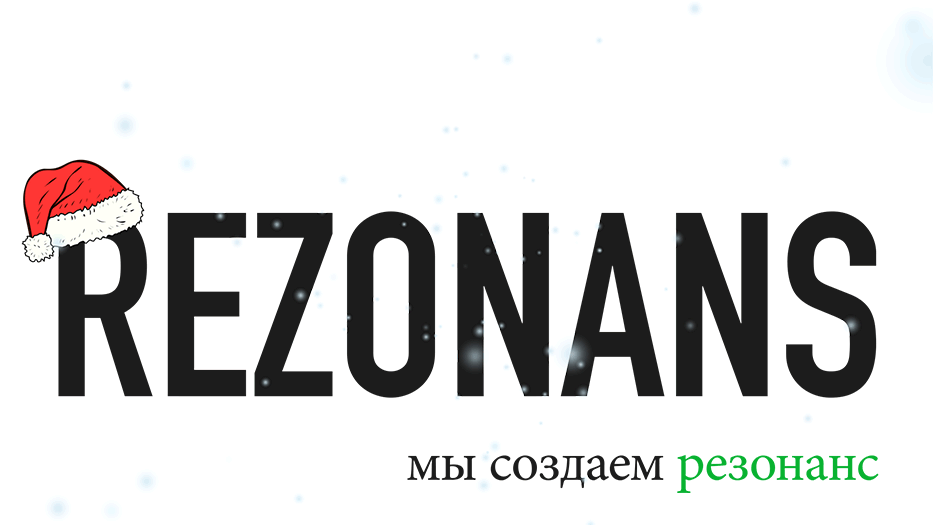Заявление российского президента о намерении внести в Конституцию этой страны изменения, прямо гарантирующие ее приоритет в правовом пространстве северного соседа Казахстана, самым естественным образом поставили вопрос о дальнейшей судьбе Евразийского экономического союза.
Своя рубашка, конечно же, ближе, но и все ходы вроде бы записаны?!
Выступая с посланием к Федеральному собранию РФ 15 января, Владимир Путин заявил буквально следующее: «…Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».
Между тем в Договоре о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 года президентами Беларуси, Казахстана и России, прямо говорится, что его участники подтверждают свою приверженность целям и принципам не только Устава ООН, но и другим общепризнанным принципам и нормам международного права. ЕАЭС в Договоре определяется международной организацией региональной интеграции, обладающей международной правосубъектностью. В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором и международными договорами в рамках союза. Под последними понимаются договоры, заключаемые между государствами-членами ЕАЭС по вопросам, связанным с функционированием и развитием союза. Кроме того, в Договоре оговариваются и международные договоры ЕАЭС, заключаемые с третьими государствами, их интеграционными объединениями и международными организациями.
Таким образом, как записано в статье 6 Договора о ЕАЭС, его правовую систему составляют как сам Договор, так и международные договоры в рамках союза и с третьей стороной наряду с решениями и распоряжениями Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Евразийской экономической комиссии. При этом в случае возникновения противоречий между международными договорами в рамках союза и Договором приоритет имеет последний.
ЕАЭС согласно статье 7 Договора имеет право осуществлять международную деятельность, направленную на решение задач, стоящих перед союзом. Она включает международное сотрудничество с государствами, международными организациями и международными интеграционными объединениями, а также заключение с ними международных договоров. Проведение переговоров по проектам международных договоров ЕАЭС с третьей стороной и их подписание осуществляются на основании решения Высшего Евразийского экономического совета после выполнения государствами-членами соответствующих внутригосударственных процедур. По аналогичной схеме принимается и решение совета о выражении согласия ЕАЭС на обязательность для союза международного договора с третьей стороной, прекращении его действия, приостановлении или выходе из международного договора.
Кому вершки, а кому корешки…
Как будет разрешена правовая коллизия для ЕАЭС после внесения поправок в российскую Конституцию, покажет время. Другое дело – экономическая целесообразность ЕАЭС для государств-участников. Для Казахстана с первых же лет деятельности этого интеграционного образования союз явно пошел не впрок. Так, в первый неполный год существования ЕАЭС – 2014-й – экспорт из Казахстана в страны-участницы союза составил $8,7 млрд., тогда как импорт в обратном направлении сложился на уровне в $16,1 млрд. В итоге торговое сальдо для нашей страны, рассчитываемое как разница между экспортом и импортом, оказалось отрицательным в минус $7,4 млрд.
В первый полный год деятельности ЕАЭС – 2015-й – объем казахстанского экспорта на этом направлении упал до $5,1 млрд. или в 1,7 раз! Правда, уменьшился и импорт из стран-членов ЕАЭС, – в 1,4 раз до $11,2 млрд. Технически объяснением для такого спада может служить значительная девальвация тенге, отправленного в свободное плавание в августе 2015 года, а также предшествовавшее ей ослабление российского рубля к доллару. Однако в 2016-м году спад продолжился. Экспорт из Казахстана в государства-члены ЕАЭС сократился еще почти на четверть (23,5%) до $3,9 млрд., а импорт из них – на 11,6% до $9,9 млрд.
Ситуация начала выправляться в 2017-м году. По его итогам объем казахстанского экспорта в страны-участницы ЕАЭС вырос на 35,9% до $5,3 млрд., тогда как импортные поставки в обратном направлении увеличились на 26,3% до $12,5 млрд. Позитивный тренд продолжился и в 2018-м году в виде увеличения экспорта из нашей страны на 13,2% до $6,0 млрд., а импорта от партнеров по ЕАЭС на 12,8% до $14,1 млрд. Увы, как следует из предварительных данных статистиков по итогам 11-ти месяцев прошлого года, этот тренд вновь сменился на негативный, так как объем казахстанского экспорта снизился на 6,7% до $5,6 млрд., а импорт из стран-членов ЕАЭС – на 7,1% до $13,1 млрд. Как нетрудно подсчитать, сальдо торговли с этими государствами так и осталось отрицательным для Казахстана, составив минус $7,5 млрд.
Есть ли при таком раскладе смысл для Казахстана в участии в ЕАЭС, вопрос, как говорится, риторический. К тому же, основным торговыми партнерами для нашей страны выступают государства Европы и Азии, на долю которых в прошлом году приходилось соответственно 36,1% и 33,1% от всего внешнеторгового оборота Казахстана, тогда как на страны ЕАЭС – 21,5%. Учитывая, что при этом доля России составила 19,9%, можно без особой натяжки утверждать, что ЕАЭС выступает в роли своеобразного псевдо-интеграционного довеска к двусторонним торгово-экономическим отношениям Казахстана с его северным соседом. Так что если российский лидер проведет все же желаемые поправки в Конституцию его страны, и в деятельности ЕАЭС наступят очередные сложные времена, то это лишь подтвердит в очередной раз уже сложившуюся статистическую реальность.