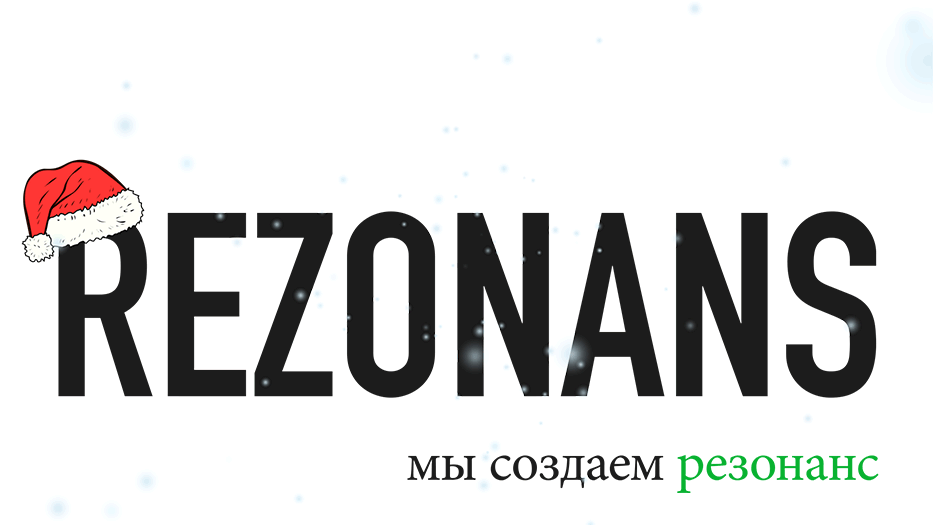Как минимум два вполне логичных вопроса возникает при знакомстве с Национальным планом развития сферы информации (НПРСИ) на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением правительства в самый разгар режима ЧП.
С Западом у нас медийные пути все не сходятся
Первый вопрос вызван выраженной ориентацией разработчиков плана на передовой опыт западных частных СМИ при том, что в нем вообще нет отсылок на масштабные реформы, проводимые государством в информационной сфере в соседних с Казахстаном России и Китае, более близких по политическому устройству. Так, в третьей главе НПРСИ, посвященной международному опыту, говорится о внедрении искусственного интеллекта и машинного обучения в деятельности газет «Guardian» и «Washington Post», а также вещательной корпорации «BBC». При описании новых форматов монетизации СМИ указывается на рост потребления контента по подписке со ссылкой на опыт журналов «The Economist» и «Foreign Affairs» наряду с газетой «TheWall Street Journal».
В другой части НПРСИ, посвященной оптимизации субъектов квазигосударственного сектора в сфере информации, в качестве примера современного медиа-холдинга приводится опыт крупнейшего информационного агентства США «Associated Press», объединяющего порядка 1700 газетных изданий, 5000 радиотрансляционных и телевизионных каналов, и располагающего примерно 250 филиалами в США и других странах мира. Общая аудитория агентства, как подчеркивается в НПРСИ, составляет более одного миллиарда человек и охватывает порядка 130 стран мира.
В разделе плана, посвященному развитию кадрового потенциала СМИ, делается ссылка на опыт Бельгии, Австрии и Израиля, где предусмотрено частичное или полное государственное финансирование в области повышения квалификации журналистов. Отмечается также опыт американских и британских ВУЗов по пересмотру системы подготовки медиа-специалистов в части обучения журналистов навыкам digital-журналистики, дизайн-мышления и коммерциализация медийных продуктов. Приводится еще в качестве примера мультимедийной обучающей платформы для начинающих и действующих журналистов американский вебсайт Schooljournalism.org. И, конечно же, в НПРСИ вполне справедливо упоминается о влиянии на глобальную медиа-индустрию американских же технологических титанов «Facebook» и «Google», кардинально меняющих расстановку крупных игроков на рынке.
Все это хорошо, но стоит подчеркнуть, что речь идет о сугубо частных компаниях, конкурирующих между собой в условиях эффективной законодательной защиты принципов свободы слова, журналистов и СМИ от вмешательства государства. Конкурируют они на свободном рынке с минимальным присутствием на нем как государственных, так и квазигосударственных медийных организаций, нацеленных в основном на вполне рутинную пропаганду властных установок, а не на развитие качественной объективной журналистики. В этом смысле Казахстану, где государство владеет крупными СМИ и влияет на редакционную политику не принадлежащих ему напрямую частных медиа-организаций через распределение средств государственного информационного заказа, было бы естественнее ориентироваться при разработке НПРСИ на российский и китайский опыт. В этих соседних странах функционируют мощные государственные медиа-холдинги, ведущие свою деятельность на высоком технологическом и творческом уровне, с охватом огромных читательских и зрительских аудиторий.
Что касается сугубо частных СМИ, неподконтрольных приближенным к властям деловым кругам, то, увы, вполне очевидно, что в казахстанских условиях им еще долго придется прозябать на периферии медийного рынка до тех пор, пока не будет снято 20%-ное ограничение на присутствие в их капитале иностранного капитала.
Когда финансы поют романсы
Второй вопрос связан с отсутствием в НПРСИ каких-либо упоминаний о бюджетных ресурсах на реализацию намеченных в нем реформ. Для начала стоило бы вкратце привести данные о выделенных государством средствах на проведение информационной политики с разбивкой их по видам СМИ – традиционные (пресса, телевидение, радио) и новые (онлайн-ресурсы, соцсети, Телеграм-каналы и прочие), по форме собственности (государственные, частные) и так далее. Заодно стоило бы оценить и эффективность потраченных денег налогоплательщиков в плане охвата целевых аудиторий, реальной эффективности влияния этой политики, творческого уровня исполнения госинформзаказа, в общем, представить нечто вроде грамотно составленного обычного маркетингового отчета, представляемого рекламодателям по итогам проведения рекламных и PR-компаний.
Затем логично было бы указать в НПРСИ объемы финансовых ресурсов, которые государство планирует выделить на проведение информационной политики в 2020-2022 годах, опять-таки с приведенной выше разбивкой. Это позволит участникам медийного рынка оценить, на какие объемы бюджетных средств им стоит рассчитывать в своих бизнес-планах и что перестроить загодя в своих редакционных делах. Так, правительство намерено пересмотреть подходы к господдержке отечественных СМИ путем исключения средств из государственного информационного заказа на производство новостных материалов, дабы направить эти деньги на освещение социально значимых тем. Другой важный сигнал для печатных СМИ – предполагаемый акцент госзаказа на аналитическом контенте, включая журналистские расследования, обзорные материалы, экспертные статьи и другие жанры. Подготовка такого контента требует повышенных расходов на оплату высококвалифицированных журналистов и экспертов.
Понятно, что такие повышенные расходы вряд ли будут по силам медийным организациям. Поэтому в НПРСИ стоило бы четко указать, какие средства намерено выделить государство на подготовку журналистских кадров новой формации, создание и содержание Академии медиа-индустрии, развитие института менторства и организацию обучающих курсов с приглашением известных казахстанских и зарубежных медиа-экспертов и специалистов.
А поскольку никаких ясных финансовых ориентиров в НПРСИ не приведено, то самым естественным образом возникает предположение о том, что главной целью плана является намерение государства оптимизировать свои расходы на содержание чересчур разросшегося медийного госсектора. В пользу такого рассуждения говорит и то, что правительственное постановление по НПРСИ было принято во время режима ЧП, экономические последствия которого существенно сократили доходную часть республиканского и местных бюджетов. Тогда вполне логичными смотрятся планы по оптимизации субъектов квазигосударственного сектора в сфере СМИ с созданием единого холдинга печатных СМИ, аналогичных холдинговых структур для интернет-СМИ и телеканалов, а также медийного технологического холдинга. Передача филиалов АО «РТРК Казахстан» на баланс местных исполнительных органов, как и передача всего медийного оборудования государственных теле-, радиоканалов на баланс ТОО «Қазмедиаорталығы» также приобретает вполне понятный финансовый смысл. Другое дело, какой реальный эффект даст такая оптимизация для государственной информационной политики, – вопрос этот, скорее всего, риторический!