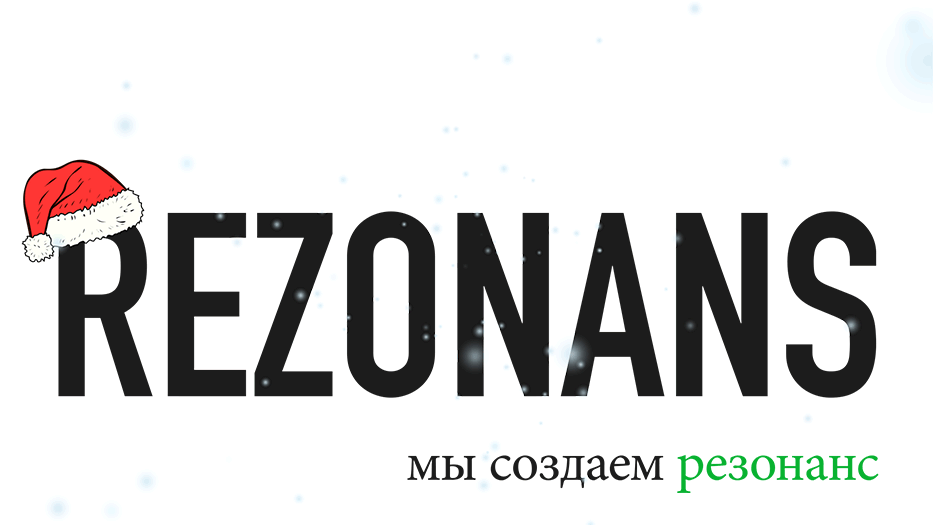В качестве советника по политике, курирующем и сферу PR, обладаю возможностями наблюдать в динамике интересные процессы, связанные с психологией социума. Полагаю, что пандемия коронавируса и вынужденный режим изоляции усугубили неопределенность, вызванную помимо режима ЧП, многолетним экономическим кризисом в Казахстане и кризисом доверия власти, связанным с уходом Назарбаева с поста президента страны.
Ведь Елбасы своей риторикой и действиями на протяжении 30 лет формировал образ патерналистской модели государственного устройства, основы которой были заложены еще Советским Союзом. И общество это вполне устраивало, потому что на протяжении этого периода протестные настроения не перерастали в масштабное общественное движение. Социальный договор в целом соблюдался как государством, так и населением. Назарбаев стал из легитимного гаранта Конституции стал символическим образом этой гарантии. Именно поэтому его уход необходимо рассматривать как важный дестабилизирующий психологический фактор.
Исследователь идеологий Карл Манхейм в своих работах акцентировал внимание на том, что в моменты глубоких кризисов у некоторых людей происходит блокирование здравого смысла в контексте осознания реальной ситуации и действий на основе разумных решений. Необходимость обдумывать и понимать происходящее превращается в суровое испытание: люди избегают рационального, прячась в сфере иррационального. При этом, психологическая защита против манипуляции сознанием в такие моменты существенно ослабевает.
Сергей Кара-Мурза в «Манипуляции сознанием» пишет следующее: «В СССР и России с 1990 г. стали назревать экономические трудности, быстро ухудшавшие личное благосостояние людей. В 1992 г. они приобрели обвальный характер, и произошло массовое обеднение населения России. Оно было, вероятно, незапланированным подарком для манипуляторов. Как и в других подобных случаях, внушаемость людей резко повысилась, их психологическая защита дала трещину (в дополнение к той, что была открыта в годы перестройки”. На основании исследований, проведенных в 22 регионах России в течение 1990, 1993 и 1994 гг. директор Центра социологических исследований Российской академии государственной службы В.Э.Бойков выдвигает важный тезис: “В настоящее время жизненные трудности, обрушившиеся на основную массу населения и придушившие людей, вызывают в российском обществе социальную депрессию, разъединяют граждан и тем самым в какой-то мере предупреждают взрыв социального недовольства”. Придушившие людей! Лучше не скажешь.
Одним из результатов обеднения был разрыв множества человеческих связей (хотя параллельно шел процесс возникновения других необходимых для выживания солидарных связей). В общем, происходила частичная атомизация, хаотизация общества. Главный специалист Министерства по делам национальностей пишет в академическом журнале: “Новая экономическая действительность всколыхнула глубинные пласты психики на личностном и групповом уровнях, сделала необходимой смену гражданского статуса соборного, коллективного индивида на статус самостоятельной, автономной личности”. Витиевато и туманно, но верно: в советское время человек был соборной личностью, а группы (народы) соединялись в систему кооперативным способом, сотрудничая. “Реформа” мощно разъединяет людей и народы и лишает их возможности для коллективных действий и коллективной психологической защиты».
Нечто похожее происходит сейчас в Казахстане: повсеместное обеднение населения, режим самоизоляции и введение жестких карантинных мер оставили людей не только без экономической, но и психологической защиты. Непоследовательная государственная политика в режиме ЧП продолжает усугублять кризис доверия власти.
Испытание изоляцией без финансовой «подушки безопасности» и социальной поддержки – это колоссальный стресс.
Человеческой природе присущи определенные потребности, основанные прежде всего, на его природных инстинктах. Когда эти потребности не удовлетворяются, а ситуация не позволяет человеку повлиять на нее таким образом, чтобы она соответствовала его потребностям, это приводит к высвобождению мыслей, фантазий и ассоциаций, позволяющих адаптировать происходящее актуальным на данный конкретный момент потребностям. Проще говоря, человек начинает интерпретировать все вокруг таким образом, чтобы это как будто поддается его возможностям и желаниям, а при желании человек может на это повлиять.
Когда появляются замещающие естественное восприятие ассоциации, логика суждений перестает иметь значение. Поскольку реалистичное мышление требует от человека не только естественной интерпретации действительности, но и реалистичной интерпретации событий. К подобным отклонениям от рационального ведет общая слабость психики каждого конкретного индивида, появившаяся в результате внешнего давления на фоне неправильных жизненных установок, неправильного воспитания, что способствует формированию иллюзорности восприятия происходящих событий. И тут самое время вспомнить о многолетней коррозии казахстанской системы образования, беспринципного подхода к интерпретации истории, тотальной деградации научной сферы, особенно, в области гуманитарных наук и отсутствию какой-либо преемственности в политике Министерства образования с каждым последующим министром.
В психологии данный формат мышления называется аутистическим. Сергей Кара-Мурза прямо указывает на подобный феномен и в своих статьях пишет: «Парадоксальность аутистического мышления в том, что оно делает возможным веру в противоположные, несовместимые и взаимоисключающие фантазии. Перестройка дала тому чистые, прямо для учебника, примеры. Желание устроить в СССР капитализм удивительным образом совмещалось с мечтой о “лишении привилегий”, полной социальной справедливости и даже уравнительстве. Иногда отрицающие друг друга тезисы следовали друг за другом буквально в одном абзаце. Бывало, что в статье на экологические темы автор возмущался тем, что высыхает Аральское море – и одновременно проклинал проект переброса в Среднюю Азию части стока северных рек.
Известный психиатр Жан Гаррабе в своей книге «История шизофрении» объясняет задачи аутистического мышления: «Результаты этого аутистического мышления, рассмотренные с логической точки зрения, представляются как постоянное противоречие смыслу. На бессознательном уровне они имеют значение выражения или реализации желаний и как бы символов некоторых вещей, имеющих некоторую ценность истины, «психическую реальность». Таким образом, концепция шизофрении Блейлера привела его к открытию психической реальности. Аутистическое мышление создает новый, фантастический мир, который для шизофреников так же реален, как и другой. В некоторых случаях больной осознаёт то, что относится к обоим мирам; в других случаях более реален аутистический мир, а реальный мир — это только видимость. Это позволяет Блейлеру различать в шизофренических психозах степень тяжести соответственно степени реальности, которую имеет для больного один или другой мир».
У самого Эйгена Блейлера – швейцарского психиатра, который ввел термины «шизофрения» и «аутизм», в работах уделено значительное внимание аутистическому мышлению: «Нас не должно удивлять, что аутизм пользуется первым попавшимся материалом мыслей, даже ошибочным, что он постоянно оперирует с недостаточно продуманными понятиями и ставит на место одного понятия другое, имеющее при объективном рассмотрении лишь второстепенные общие компоненты с первым, так что идеи выражаются в самых рискованных символах».
Причина данной патологии мышления в грани, за которой человек может оказаться в мире иррационального, успокоив тем самым свою психику. Именно спокойствие и утешение для человека Блейлер считал главным достоинством аутизма. Есть один важный момент, на который стоит обратить внимание – то, что люди с аутистическим мышлением рисуют в своей голове, носит применительный характер. Аутистическое мышление тенденциозно, оно развивается без привязки к временным «якорям».
Это порождает весьма благодатную почву для внешних манипуляций и проведения когнитивных операций.
Бесконечно уважаемый мной профессор Георгий Почепцов на Rezonans.kz пишет следующее: «Когнитивная война более глубинная, если сравнивать ее с информационной. Она направлена на трансформацию сознания, а не просто на добавление информации. Она работает на уже существующих полюсах плохого/хорошего, например, присоединяя к ним новую фактическую информацию.
Можно выделить две основные точки, управляющие успешностью когнитивной операции. Мы условно назовем их ВХОД и ВЫХОД.
ВХОД – это преодоление защитных функций массового сознания, что делается с помощью усиления негативности сообщений, от которых по этой причине невозможно уклониться. Ведь, даже когда мы пытаемся их опровергнуть, мы все равно частично можем начать признавать их справедливость, хотя бы в душе, переходя к позиции в своих рассуждениях – “этого не может быть, но что-то в этом есть”.
И ВЫХОД – эта та реальная аудитория, на которую эти действия рассчитаны. Очень часто это не массовая аудитория, ради которой вроде бы распространяется это сообщение.
Специалисты акцентируют и такие характеристики когнитивной войны, возникающие в контексте соцмедиа: “Эта новизна возникла с середины 2000-х с приходом гиперсвязности, в основном как продукт феномена соцмедиа и сопутствующей бизнес-модели, основанной на создании постоянного внимания человеческого мозга. Этот феномен создает мост между информационной войной и когнитивной, который эксплуатируется беспринципным противником. Гиперсвязность создает возможность трансформировать информационную войну из набора эпизодической активности, в основном связанной с усилиями военных и разведки в поддержку летальных и кинетических результатов на поле боя, в единое непрерывное усилие по нарушению и отрицанию когнитивных условий, в которых реализуется когнитивный контекст всего общества. Когнитивная война собирает вместе инструменты информационной войны и забирает нас в реалии “нейрооружия”, определяемые Джордано как “все, что позволяет мозгу бороться с другими”. <…> Способность открытого общества к функционированию в виде поддержания и обновления нарративов, на которые опирается их превосходящая материальная сила, быстро разрушается, когда определенные когнитивные процессы оказываются доступными для манипуляций”.
Когнитивные операции необходимо рассматривать как важную часть военных стратегий США и России. Китай по-иному воспринимает формат когнитивных операций, но пандемия COVID-19 продемонстрировала, что и Китай готов работать инструментами, характерными для перечисленных ранее стран.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в своем выступлении, больше известном как «Доктрина Герасимова 2.0», определил приоритет активной обороны:
«В процессе своего развития военная стратегия прошла несколько этапов эволюции – от «стратегии сокрушения» и «стратегии измора» до стратегий «глобальной войны», «ядерного сдерживания» и «непрямых действий».
США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение», используются технологии «цветных революций» и «мягкой силы».
Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле.
Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь».
Суть её заключается в активном использовании «протестного потенциала пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам.
Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова противодействовать любой из этих стратегий. За последние годы военными учёными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников.
Основой «нашего ответа» является «стратегия активной обороны», которая с учётом оборонительного характера российской Военной доктрины предусматривает комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства».
Казахстан воспринимается Россией как страна, в которой Кремль имеет историческое влияние. Существующее понимание Центральной Азии и, в первую очередь, Казахстана как «мягкого подбрюшья России» достаточно емко определяет отведенную нам роль в когнитивной войне США и России. Соседство с Китаем добавляет интереса, и лишь усиливает риски того, что «подбрюшье» это будет вспорото отработанным во многих странах ударом в формате ликвидации государственности.
Сергей Кара-Мурза в «Манипуляции сознанием» подробно описывает механизмы формирования антигосударственного чувства:
«Первым условием успешной революции (любого толка) является отщепление активной части общества от государства. Каждого человека тайно грызет червь антигосударственного чувства, ибо любая власть давит. Да и объективные основания для недовольства всегда имеются. Но в норме разум и другие чувства держат этого червя под контролем. Внушением, художественными образами, песней можно антигосударственное чувство растравить».
Далее Кара-Мурза подробно описывает инструментарий, включающий в себя подмену понятий, отключение исторической памяти и нравственности, разрушение символов, манипуляции понятиями труда и безработицы, подогрев антиноменклатурного настроя, распространение и взращивание стереотипа «обделенного народа», стереотипа «преступного мышления» и пр.
Но одним из самых важных и потому опасных инструментов формирования антигосударственного чувства является культивирование ненависти к силовым структурам.
Стоит отметить, что именно легитимное право на насилие является одним из столпов государственности. В подрыв легитимности действий силовых структур, входит формирование отрицательных коннотаций, негативного образа полицейского, перерождение высоконравственного образа чекиста в «мажора», для которого характерна вседозволенность и расхлябанность поведения.
Это не значит, что полиция и силовые структуры являются «чистыми» в своей работе. Отнюдь. Коррупция и деградация системы образования коснулась абсолютно всех сфер нашей жизни. Но взращивание ненависти к силовым структурам надо воспринимать как повышение рисков для существования государства.
Мы считаем, что аутистическое мышление при значительной внешней поддержке формирования антигосударственного чувства у части населения перерождается в антигосударственное мышление. И масштабирование антигосударственного мышления в контексте когнитивного противостояния России и США является для Запада задачей среднесрочной перспективы.
Необходимо также разделить понятия протестных настроений и антигосударственного мышления. Протестные настроения можно купировать рядом быстрых решений. Но антигосударственное мышление купировать нельзя, и поэтому оно несет гораздо больше угроз в среднесрочной перспективе. С учетом принципов ведения современных войн, основанных больше на когнитивных установках, нежели на установках ракетных, риски для суверенитета нашей страны весьма высоки.
«Для программирования поведения важно не только создать предпосылки нужных действий, но и спровоцировать их, вызвать контролируемую активность в нужный, благоприятный для манипуляторов момент. Конечно, манипуляторы стараются встроить в организацию противостоящих им общественных групп своих провокаторов, которые могли бы дать нужную команду. Но это непросто, внедрить и вырастить провокатора с таким авторитетом удается редко, да и “тратят” его в самом крайнем случае. Чаще его роль сводится лишь к поддержке тех сигналов к действию, которые манипуляторы посылают извне, безлично» – С. Кара-Мурза.
Нас удивляет недостаточное внимание заинтересованных по долгу госструктур к данному вопросу, но не отменяет нашего исследовательского интереса.
Патерналистская модель социального устройства предрасполагает к формированию антигосударственных чувств, особенно, в случае сокращения объема или отказа в мерах поддержки. Этот важный фактор необходимо учитывать при формировании государственной политики как системы. Поскольку любые действия, даже если они направлены на последующее развитие и прогресс, будут иметь значительные последствия, при нарушении сформированных моделей поведения.
Не стоит проводить реформы ради реформ, более того, в определенных случаях даже упрощение процедур будет иметь негативные последствия, поскольку лишает людей ритуальности и социальных коммуникаций во время выполнения сложившихся ритуалов.
Уже сейчас мы наблюдаем – как остро население реагирует на один только слух о том, что все образование будет переведено на дистанционный формат. К сожалению, психологические аспекты совершенно не учитываются при формировании государственных программ и алгоритмов их реализации. Подобные действия порождают внутренний протест и чувство обделенности.
И это чувство обделенности стало более заметным в росте агрессивных высказываний по отношению к нашей партии, как триггерного объекта.
Собственно говоря, именно формат агрессии в социальных сетях по отношению к Коммунистической Народной партии Казахстана, используемые хейтерами мыслеформы, отсутствие логики их высказываний и сформировали в свое время наш интерес к психологическим причинам поведения данной страты.
Как руководителя аналитического центра, по приходу в партию, меня заинтересовало повторяющееся наблюдение за тем, что в одном предложении хейтеры используют в адрес партии эпитеты «ненастоящие коммунисты» и «ответственны за преступления коммунизма» без какого-либо осознания диссонанса и понимания алогичности связки первой и второй части единого утверждения. Безусловно, это феномен был интересен со многих точек зрения. Также показателен уровень политической неграмотности населения. Ведь идеологическая платформа Коммунистической Народной партии заключается в максимальном расширении социальных обязательств государства перед населением, т.е. наша партия является на сегодня ЕДИНСТВЕННОЙ, кто настаивает на максимальном укреплении патерналистской модели государственного устройства. А при изучении профилей хейтеров, было очевидно, что их однозначно не устраивает объем социальной помощи, оказываемой государством и нынешняя социальная политика.
С некоторыми из нефэйковых аккаунтов я вступала в переписку с целью поиска рационального зерна в их высказываниях. Вынуждена отметить, что подавляющая масса не может сформулировать мысли и даже выразить претензии по существу.
Пока мы не можем сказать – какой точно процент аутистически мыслящего населения Казахстана, а уж тем более, антигосударственного мышления, является объектом нашего интереса. Полагаться только на выборку мнений в социальных сетях считаю нерелевантным по ряду причин. В том числе и потому, что Коммунистическая Народная партия Казахстана одним своим названием является триггерной для описанной выше страты. Поэтому не даст объективности оценки реального положения дел.
Есть гипотеза, что страта эта достаточно велика – косвенным признаком является тот факт, что государство изначально пошло на оплату медицинских страховок для 58% населения, а во время ЧП заявки на получение пособий подало более 8 млн человек при работоспособном населении в 9,2 млн.человек.
Определенный процент от этой аудитории уже обладает антигосударственным мышлением. Причины для такого рода мышления могут быть разными: от ощущения обделенности своей национальности до социального пакета, предлагаемого соседним государством. Аутистическое мышление может цепляться за любой триггер, а «червь» антигосударственного чувства доделывает нужную работу. Поэтому в количественном отношении речь может идти о сотнях тысяч людей. Надо изучать.
И самый главный вопрос – что делать?
Многое зависит от государственной информационной политики и всеобъемлющего подхода к вопросу формирования мышления и создания правильно рассчитанных фреймов с точки зрения идеологии государствоцентричности.
Мы понимаем – как нужно правильно фреймировать идеологические месседжи, и не только с точки зрения нашей партии, но и с точки зрения государствоцентричности.
Но хватит ли у нас сил и времени при инертности махины государственной системы, поверхностного мышления чиновников и отсутствия реальной заинтересованности в долгосрочных системных преобразованиях в ущерб быстрым результатам. Меня угнетает этот вопрос, также, как и то, что единственный информационный ресурс, на котором можно поднимать подобные темы в Казахстане – это наш собственный.